Наверное каждый автор мечтает написать хоть один текст, который переживет его. При этом, не обязательно что-то типа «Войны и мира» или «Преступления и наказания». Достаточно одного стихотворения, которое станет популярным романсом. Кто не знает этих слов: «Отвори потихоньку калитку и войди в тихий садик как тень…»? Все знают. А автора? Это тот самый случай, когда произведение пережило своего создателя.
Знаменитый романс написал Алексей Будищев. Он еще написал множество романов, рассказов, статей, а остался один романс. В Гатчине ему даже поставили памятник. Романсу. Очень яркий рассказ Будищева «Катастрофа» был хорошо известен русскому читателю конца XIX начала ХХ века. По нему даже была поставлена пьеса. Будищеву помог переписать этот текст для сцены еще один забытый беллетрист той эпохи – Александр Федоров, у которого было безошибочное чутье на «клубничку», которая непременно найдет отклик у аудитории.
Алексей Будищев
КАТАСТРОФА
I.
Суздальцев ехал верхом на рыжем иноходце узкой полевой дорогой. По обеим сторонам её колыхались волны высокой, непрорезной ржи. Кругом, как только хватал глаз Суздальцева, волновалось это зеленое море, тихо плескавшее вдали о желтоватые выступы каменистых холмов, поросших невысоким сосняком. Был полдень тихий и ласковый, какие бывают в июне, когда белые, как снег, и легкие, как пена, облака, застят небо, умеряя жару. Жаворонки поют в такой полдень особенно весело, рожь благоухает сильнее, а ветер бежит порывами, внезапными и короткими. Порою кажется, что он не приносится издалека, а рождается здесь же, рядом; быть может, он дремлет в соседней неглубокой лощине, на зеленой меже, под ракитовым кустом, дремлет и нежится и ласкается к кудрявой раките; но вот он вспомнил о своих обязанностях, встрепенулся, побежал по вершинам ржи, пошептался на бегу с колосьями и, добежав до ближайшей межи, снова изнеможенно упал в траву, шевельнув желтыми цветами одуванчика. Суздальцев стегнул иноходца. Ему захотелось поскорее добраться до дома, чтобы выкупаться и позавтракать; он с 5 часов утра в седле, и его ноги затекли; ему хочется есть, и, кроме того, он ужасно соскучился о жене. Иноходец пошел рысью.
Игнатий Николаевич Суздальцев на вид человек лет 28, не высокий, но ширококостный и несколько сутуловатый; у него темно-серые глаза, умные и выразительные; его темно-русые, слегка вьющиеся волосы и бородка коротко подстрижены; лицо загорелое, свежие губы улыбаются гордо и несколько надменно. Сразу, по одному его виду уже можно безошибочно определить, что он беззаветно любит, нежно любим, без меры счастлив и чувствуешь себя кузнецом своего счастья. Да и в самом деле, он почти всем обязан самому себе. Имение досталось ему после отца запущенное и обремененное долгами, и Суздальцев в шесть лет хозяйничанья сделал это имение образцовым. Женился он три года тому назад на опереточной певичке, в Петербурге, куда ездил слушать лекции по химии; тетеньки пророчили ему всевозможный бедствия зa такую его неосмотрительность при выборе жены, а между тем он счастлив. И это все потому, что у него есть ум, характер и любовь к делу, и с этими качествами он сумел устроить имение и перевоспитать жену.
Суздальцев взмахнул нагайкой. Он уже подъезжал к каменистым холмам, на одном из которых раскинута его усадьба. Маленький домик с балконом, выходившим в сад, глядел на него настежь распахнутыми окнами словно говорил: “Здравствуйте!” Стаи уток и гусей полоскались за садом в перепруженной речке; ближе, под тенью развесистых ветел, стояло на стойле большое стадо тонкорунных мериносов. На дворе запачканные мужики вывозили навоз из обмазанных глиной овчарен. А у конюшни рыжебородый Селифан вытирал тряпкой только что выкупанного Арабчика.
Суздальцев въехал в ворота, крикнул возившим навоз мужикам: “Пора обедать!”, подъехал к конюшне и, бросив поводья Селифану, поиграл шелковистой гривой Арабчика. Затем он направился к крыльцу, на ходу расправляя затекшие ноги.
Когда он проходил мимо столовой, кто-то подкрался к нему сзади и обнял его, крепко зажимая его глаза такими славными, нежными и душистыми ручками. Суздальцев забрал эти руки в свою и, весь полный радости и задора, быстро перегнувшись, перебросил жену через плечо, так что у его уха только успел прошуршать целый ворох легких юбок. Жена испуганно вскрикнула и сейчас же звонко рассмеялась, как расшалившаяся девочка. А он, весь полный звонкого веселья, глядел на жену и с задором проговорил:
– Что скуралесничала? А я тебя как мешок с посыпкой! Через плечо! Что? Славно?
Жена, тоже как бы вся смеясь, подошла к нему вплоть и, слегка нажимая на него грудью, принялась поправлять его усы. И вдруг поцеловала его в губы, с тою же веселой поспешностью, с которой срывают хороший цветок. И затем, заглянув в глаза мужа, она сказала:
– У-у, какой ты у меня все еще глупый!
– А что? – спросил ее на ушко муж и улыбнулся.
– Что? Еще спрашиваешь! Точно я не умею читать в твоих глазах! – сказала та и покраснела. Она выглядела такой женственной и ласковой, что сердце Суздальцева затрепетало.
“Я и люблю ее так пылко, – подумал он, – именно за эту женственность, за эту необычайную мягкость характера!” Он привлек к себе молодую женщину. Она недавно купалась, и на её золотистых волосах сверкали водяные капли. От всей её фигуры, несколько полной, но гибкой, веяло свежестью и ароматом, сладко волновавшим Игнатия Николаевича.
Он привлек ее к себе, но она, шутя, оттолкнула мужа.
– Ступай купаться, завтрак простынет, – сказала она, уже принимая вид озабоченной хозяйки.
Суздальцев с комической поспешностью побежал в спальню. Когда он шел мимо окна столовой с простынею и мылом, жена крикнула ему в окно:
– У нас сегодня битки в сметане и кофе с лепешками; чувствуешь?
Игнатий Николаевич улыбнулся, сделал реверанс и крикнул:
– Чувствительно тронут!
Битки и лепешки были его любимым кушаньем. Он шел к речке и думал: “У меня не жена, а прелесть! Жаль только, что детей нет”.
– Но они будут, будут, – вслух проговорил он и, припрыгивая, побежал к речке; ему было страшно весело.
Когда Игнатий Николаевич после купанья снова вошел в столовую, завтрак уже был на столе. Он с веселой улыбкой сел за стол и принялся за битки, хватая между едой руки жены и целуя их с видом школьника, вырвавшегося на свободу. Суздальцева смеялась, протестовала и вырывалась, но он оправдывался:
– Что же мне делать, если у меня сегодня сердце хохочет!
А за кофе жена сообщила ему. Она получила утром письмо. Сегодня у них будет гость – бывший её сослуживец, певец Тирольский. Он приглашен на летний сезон в Крутогорск, поедет мимо и заедет погостить дня на два, на три. Суздальцева как будто была недовольна и взволнована этим, по крайней мере, так показалось её мужу.
– Мне это ужасно неприятно, – говорила она, чуть бледнея и потупляя глаза, – потому что я как раз думала сегодня съездить погостить к Содомцевым, я у них давно не была, а они такие милые и радушные; не все соседи относятся ко мне так доброжелательно, и я дорожу этим знакомством. Разве поехать? – Она глядела на мужа, точно чего-то опасаясь и ища в нем поддержки.
– Пусть Тирольский приедет без меня, – говорила она мужу уже совсем озабоченно, – а ты прими его сам и посуше. Да постарайся поскорее сплавить. Что он нам? Мы с тобой деревенские люди, мужики. Так ведь? А эта оперетка… – Она не договорила, Игнатий Николаевич стал уговаривать ее остаться; он сам терпеть не может певцов и положительно не знает, что ему делать с Тирольским; кроме того, у него “полон рот хлопот”. В конце концов жена согласилась отложить поездку к Содомцевым, а Игнатий Николаевич после обеда снова уехал в поле, не дождавшись приезда гостя. Впрочем, когда он был уже за околицей, ему ясно припомнилось лицо его жены в ту минуту, когда она прощалась с ним. И выражение лица этого вдруг напомнило ему теперь картину утра еще пока ясного, но уже почувствовавшего приближение грозы. Он побледнел и хотел было вернуться домой. Но снова поехал в поле, сказав себе с решительным видом: “Вздор!”
II.
Ольга Сергеевна Суздальцева гуляла с Тирольским по саду. Закат уже догорал. Малиновые с золотыми жилками тучи, стоявшие на закате, темнели и тихий ветерок лениво шелестел листьями засыпающих деревьев.
Ольга Сергеевна опиралась на руку Тирольского и слушала его болтовню о Петербурге. Тирольский, тонкий брюнет, бритый и в модном костюме, передавал ей обо всем, что произошло за последние три года в опереточном мире. Суздальцева слушала все эти закулисные сплетни жадно, с сверкающими глазами, и будто какая-то паутина, на вид неуловимая, но властная, опутывала все её существо. Все новое, приобретенное ею в деревне, вот здесь, в совместной работе об руку с мужем, как бы отодвигалось на задний план. А на смену этому новому снова выдвигалось, как яркие декорации, старое, давно ею пережитое, полное греха, соблазна и головокружительных ощущений. Между тем Тирольский все говорил и говорил. Тенор Никольский умер от разрыва сердца, хористка Забельская выдвинулась и теперь почти знаменитость, примадонна Самарина вышла замуж за богатого фабриканта.
Тирольский говорил все это, скаля порою белые зубы, и ласкал бледные руки молодой женщины развязным жестом привычного сердцееда. А Ольга Сергеевна задумчиво смотрела вдаль и уносилась мечтою в прошлое. Не покинь сцены, она могла бы быть в настоящее время знаменитостью; её голос сильнее голоса Забельской, и, кроме того, Ольга Сергевна несравненно красивее. Это говорил и Тирольский и все.
Тирольский тихонько пожал руку Ольги Сергеевны и нагнулся к её лицу. Когда-то эта женщина была близка ему, и он имел над нею власть. Но они разошлись также случайно, как и сошлись, а затем Ольга Сергеевна познакомилась с Суздальцевым и вскоре уехала с ним в деревню.
– Обворожительная! – прошептал вдруг Тирольский, вздохнув.
Ольга Сергеевна дрогнула. На нее вновь властно пахнуло старым, пережитым, грешным, и она испугалась возникавшего в ней чувства. Она несколько отстранилась от Тирольского и побледнела. Ей захотелось уйти от него в дом, но она, однако, не ушла. Цепь, которая теперь приковывала ее к её прошлому, была уже, очевидно, крепка. А того, что через минуту она окрепнет еще более, она не предусмотрела. Может быть даже не хотела предусмотреть. Они вошли в беседку.
Тирольский усадил Ольгу Сергеевну на диванчик и стал перед нею на колени. Он побледнел.
Ольга Сергеевна потупила глаза и изменилась в лице; у неё даже губы побледнели. Она чувствовала, что её силы уходят куда-то, а старое, давно пережитое все выплывает и выплывает, охватывая ее всю с головы до ног, как властное море. Она зашептала:
– Не надо, ради Бога не надо! Зачем это?
Она приподнялась было с дивана, сердито выкрикнула в последней борьбе:
– Как вы смеете? Я – жена Суздальцева! – вскрикнула и солгала: жена Суздальцева уже утонула в том властном море.
И, почувствовав это, она горько расплакалась, сознавая себя такой жалкой и слабой. А Тирольский обнял ее стан и стал целовать её губы.
Когда Суздальцев, возвратившись с поля, проходил мимо хмелевой беседки, он внезапно остановился; он услышал там голос жены и побледнел. Жена шептала кому-то умоляюще и торопясь.
– Ради Бога, уезжай! – раздавался из беседки торопливей и тревожный шепот, полный мучений, беспокойства, тоски и в то же время негодования, – уезжай завтра же! Слышишь? Я противна самой себе, и то, что произошло, не должно повториться! Слышишь? Уезжай! Пожалей меня, я – гадкая, изломанная и искалеченная! Я не люблю тебя, я люблю мужа, а ты мне гадок! – Да, гадок! И мне гадка вся сцена и все вы и все мое прошлое! Слышишь? Вы все – ком грязи, приставшей к моей подошве!
Суздальцев с трудом перевел дыхание; какой-то туман наполнили его голову и не позволял ему хорошенько сосредоточиться; сильное биение сердца мешало ему слушать Он сделал шаг вперед.
– Я хотела уехать, – между тем слышалось из беседки, – когда получила твое письмо, но муж отсоветовал мне, и я встретилась с тобою! – То, что случилось, конечно, непоправимо. Но знай, по крайней мере, что ты гадок, и что я презираю тебя как и себя! Презираю всеми лучшими чувствами, еще оставшимися во мне. Я люблю мужа. Слышишь, его одного. И если в тебе есть капля чести, хотя единая крупица среди навозной кучи ты должен уехать сейчас же! Не медля! До приезда мужа!
В беседке послышались рыдания.
Суздальцев рванулся с места; внезапная мысль, как молния, осветила царивший в его голове хаос. Суздальцеву стало ясно, что жена его ему изменила, изменила глупо, без любви, без желания, подчиняясь почему-то чужой воле. Игнатием Николаичем овладело бешенство; ему хотелось вломиться в беседку и измять, исковеркать, превратить в прах того, чья воля тяготела над его женою, кто одним взглядом уничтожил его трехлетний труд и вернул Ольгу Сергеевну к старому, к грешному, к этому прошлому, будь оно проклято! Но Суздальцев удержался. Он решил помедлить, подумать, взвесить и сообразить все; пошатываясь, он тихо пошел вон из сада. У калитки Суздальцев внезапно упал, точно его ноги подрезали сзади косою; его холщевая фуражка слетела с головы; он почувствовал ломоту в коленях и стреляющую боль близ поясницы.
Несколько минут Суздальцев просидел в таком положении, растерявшись и испугавшись этих внезапных болей. Наконец он оправился, вышел из сада и, отыскав караульщика, приказал ему заседлать лошадь. Через несколько минут лошадь была готова. Игнатий Николаич сел в седло и несколько овладел собою.
– Передай барыне, – сказал он караульщику, – что я остался ночевать на мельнице; дело, мол, неотложное есть; да не говори, что я сам приезжал: работника, скажи, присылал! Слышишь?
Суздальцев тронул лошадь.
Он спустился с холма, обогнул овраг и лугами подъехал к речке. Здесь он стреножил лошадь и лег на берегу. Ему хотелось хладнокровно обсудить свое положение и что-либо предпринять, но он не мог разобраться в разнородных чувствах, волновавших его сердце, и при одном воспоминание о случайно подслушанном им разговоре, голову его наполнял туман. Суздальцев думал о жене: “Человек не машина, и изломанную душу не починишь. Я надеялся возродить Олю к новой жизни, вырвал ее из омута и работал с нею бок-о-бок три года. Но я ошибался. Олю погубила та самая замечательная мягкость характера, которая мне так правилась в ней”. Суздальцев вспомнил Тирольского и пришел в дикую ярость. Чисто физическая боль рвала его сердце, и Игнатий Николаич сознавал, что эта боль не затихнет, пока не выльются наружу те чувства, которые переполняют его душу. Внезапно Суздальцеву пришло в голову вернуться домой, убить Тирольского и сжечь всю усадьбу, чтобы ни один пенек не напоминал ему о его постыдном поражении. Но он воздержался и снова лег на траву. Он долго лежал так на берегу, бесцельно глядя на голубую поверхность тихой речки. Им овладело оцепенение. Он лежал и думал: “Женщина – это инструмент, на котором каждый может наигрывать все, что ему угодно. Я играю на нем “марш рабочих”, а другой скабрёзную шансонетку. И женщина вторит и тому, и другому с одинаковым наслажденьем!”
– Какое скотство! Какая обида! Какая горечь! – восклицал он, стискивая кулаки.
В лугах было темно. Бледный серп луны зарылся в тучи, и только расплывчатое серебристое пятно обличало его присутствие на небе. Где-то далеко уныло куковала кукушка. Неясный шепот стоял в росистой траве, точно сонные травы шептали друг другу о темных безднах и светлых высях души человеческой, шептались и содрогались в горьком недоумении.
Суздальцев вернулся в усадьбу на рассвете, бледный, с измученным лицом. Он прошел к себе в кабинет и написал следующую записку:
“Милый доктор, приезжайте сегодня к утреннему чаю. Ваше присутствие будет необходимо. Ольге Сергеевне скажите, что завернули мимоездом. Ваш Суздальцев”.
Эту записку он отправил с кучером к земскому врачу и затем тихонько прошел в спальню жены.
Ольга Сергеевна лежала в постели, засунув под подушки руки. Ее лицо было бледно, губы полураскрыты; порою грудь её нервно приподнималась, и она тревожно вздыхала во сне.
Суздальцев поправил сползшее одеяло и, оглядел жену с сердитым и сосредоточенным видом.
Острая боль пронзала его сердце, и он хмуро думал: “Тебя я прощаю. Да. Что ты? Жалкая шарманка в руках судьбы! Но я не могу и не смею простить его. Я должен мстить ему за тебя, за себя и за всех честных людей!”
Ольга Сергеевна перевернулась на спину и широко раскрыла глаза; но она еще не проснулась, её глаза ничего не выражали. Игнатий Николаич приподнялся и на цыпочках вышел из спальни. Он прошел в кабинет и изнеможенно опустился на кушетку.
III.
Уже светало; раннее утра весело глядело в окна кабинета; сад просыпался. Тревожный шепот ночи сменялся жизнерадостною болтовней раннего утра. Суздальцев лежал на кушетке и усталыми глазами смотрел в окно. Он уже не мучился более. В его голове созрело решение.
В восемь часов в кабинет Суздальцева вошел доктор, хохол Абраменко, румяный и добродушный толстяк. Он поглядел на Суздальцева, покачал головою, посвистал и сказал:
– А паныч сильно занедужил! Это не хорошо!
Они поздоровались. Абраменко заглянул в глаза Игнатия Николаича.
– Небось инфлюэнца?
– Должно быть. – Игнатий Николаич улыбнулся и добавил:
– Лечить ее будем после чаю.
Доктор потрепал колено Суздальцева.
– Добре, паныч!
Игнатий Николаич встал с кушетки, посмотрел на себя в зеркало, поправил рукою волосы и пригласил Абраменко в столовую.
Когда они вошли туда, на столе уже кипел самовар. Ольга Сергеевна сидела за столом бледная, с покрасневшими глазами; против неё прихлебывал из стакана чай Тирольский. Ольга Сергеевна поцеловала мужа, поздоровалась с доктором и представила им Тирольского. Сели пить чай. Абраменко поедал лепешки и шутил. Тирольский рассказывал о Петербурге, а Суздальцев упорно молчал, забывая свой стакан. Порою он исподлобья взглядывал на Тирольского, как бы о чем-то припоминая. Лицо Тирольского казалось ему знакомым. Наконец он вспомнил: в альбоме Ольги Сергеевны есть несколько карточек Тирольского. Ольга Сергеевна украдкой посматривала на мужа. Он сидел бледный, углубленный в самого себя. Его пиджак был испачкан в траве, волосы непричесаны, под глазами синели круги. Ольга Сергеевна внезапно вспомнила; кажется, сегодня на рассвете она видела во сне мужа, именно, в таком виде; в его глазах стояли слезы и гнев. И еще какое-то чувство не то сожаления, не то презрения, наполнившее ее кошмаром. Она притихла за столом, будто осунулась и погасла.
Чай был допит. Ольга Сергеевна ушла по хозяйству, а Игнатий Николаич пригласил мужчин к себе в кабинет. Он вошел последним и на ключ запер за собою дверь; доктор с недоумением посмотрел на него. Суздальцев молча подошел к стене, увешанной разным оружием, и снял с гвоздя казацкую нагайку. Абраменко и Тирольский переглянулись. Они решительно не понимали, что хочет делать с нагайкой Игнатий Николаич. Суздальцев обернулся к ним; он был бледен, как полотно. Он хотел говорить, но сильное волнение сковало его язык. Так прошло несколько минут. Абраменко пытался понять причину странного поведения Суздальцева. Тирольским овладевал безотчетный страх; и доктор и он побледнели.
Наконец Суздальцев заговорил.
– Есть люди, – начал он, – работники, и есть люди хищники. Работники трудятся, стремятся к достижению намеченных целей, мечтают о будущности всех окружающих их, о будущности всего человечества; хищники думают только об удовлетворении своего аппетита. Работники изощряют ум, обливаются потом, гнут спину; хищники падают как ястреба и берут добычу слету. Работники ненавидят хищников, хищники презирают рабочих! Так?
Суздальский передохнул, все более и более бледнея.
– Вы, господин Тирольский, – хищник, я – работник! – вскрикнул он вдруг. – Я вырвал женщину из когтей хищников и пытался сделать ее такой же работницей, как и я, но вы упали как ястреб, и вырвали мою долю. Вы отняли мое приобретение, и я схватился за нож! – Да за нож! Ибо у рабочих с хищниками никакого мира быть не может. Или они – хозяева жизни, или мы! Вот в чем тут вопрос!
Суздальцева передернуло. Его губы искривились.
– Господин Тирольский, – повысил он голос, – согласны ли вы стреляться со мною здесь, не выходя из кабинета, на смерть?
Тирольский вздрогнул. Он хотел что-то сказать и только растерянно улыбнулся.
Суздальцев повторил вопрос и стиснул рукою нагайку. Доктор подошел к нему.
– Милый Игнатий Николаич, что с вами? – сказал он бледный, силясь овладеть собою. – Образумьтесь, голубчик; нельзя ли уладить как-нибудь иначе?
– Дорогой доктор, простите, но я делаю вас невольным секундантом. Нам надо стреляться, необходимо кому-нибудь умереть, – проговорил Суздальцев.
Его голос дрожал и прыгал.
– Господин Тирольский, – бешено крикнул он, – будете ли вы со мною стреляться, иначе я изобью вас нагайкой!
Тирольский несколько овладел собою.
– Послушайте, Игнатий Николаич, нам надо объясниться… – прошептал он, пожимая плечами.
– Господин Тирольский! – крикнул Суздальский и замахнулся нагайкой.
Тирольский съежился и прошептал:
– В таком случае я согласен…
Его забила лихорадка. Он посмотрел на окно. Если бы оно не было так далеко, он мог бы выскочить в сад.
Условия следующие, – проговорил Суздальцев: – стрелять по жребию на расстоянии комнаты, причем стреляющий имеет право сделать три шага.
– Это будет в упор, – заметил доктор, – это уж слишком…
– Милый доктор, – Суздальцев тронул плечо Aбpaменки, – неужели вы хотите, чтобы я совершил убийство?
В глазах доктора внезапно сверкнула ненависть.
Кивнув на Тирольского, он проговорил:
– Паныч, избейте его нагайкой, и делу конец!
Тирольский рванулся было с места, сверкнув на доктора глазами, но опомнился, побледнел и проговорил:
– Оскорбляете перед поединком? Какая низость!
Суздальцев молчал. Доктор покачал головою и вздохнул.
Игнатий Николаич снял со стены два совершенно одинаковых револьвера и подал их доктору; затем он вынул из кошелька медную монету; Абраменко взял ее и положил на свою широкую ладонь. Внезапно у него снова явилась на Тирольского злоба. “Таких трутней бить надо!” подумал он и спросил, сверкая глазами.
– Господин Тирольский, орел или плата?
Он подкидывал монету на ладони и злобно смотрел на Тирольского. Щеки Тирольского задрожали.
– Плата, – прошептал он.
В кабинете стало тихо. Доктор подбросил монету. Она со звоном упала на пол. Доктор нагнулся к ней и крикнул:
– Орел! Игнатий Николаич, вам стрелять первому!
Он подал противникам по револьверу. Суздальцев стал в нескольких шагах от Тирольского с револьвером в руках. Тирольский с ужасом смотрел на противника.
– Послушайте, внезапно прошептал он, умоляюще поднимая глаза, – я уеду сейчас же, я буду просить у вас извинения, вы никогда не услышите о моем имени…
Он не договорил. Суздальцев сделал первый шаг и прищурил глаз. Он бледнел все больше и больше, но рука его не дрожала.
У Тирольского затряслись колени. Сейчас Суздальцев сделает последний шаг и размозжит ему голову.
“Умирать за один, хороший момент, – подумал он, – как это глупо!”
Но у него тоже в руках оружие, и он может спасти свою жизнь. Тирольский поймал себя на этой мысли и с отвращением содрогнулся. Он был противен самому себе.
Суздальцев готовился сделать последний шаг. Тирольский откинулся назад, все его лицо внезапно перекосилось, и, быстро подняв револьвер, он в упор выстрелил в Суздальцева.
Суздальцев упал как подкошенный. Когда Ольгу Сергеевну впустили в кабинет мужа, он лежал на кушетке без признаков жизни. На левом боку его парусинового пиджака медленно расплывалось темно-красное с черною сердцевиною пятно.
Рассказ «Катастрофа» был опубликован в сборнике “Степные волки». 1898 г. С.Пб. Печатается с сокращениями.
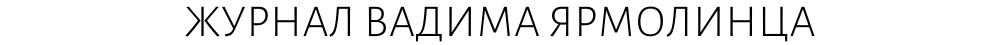




8 Comments
Замечательный рассказ, спасибо.
Очень рад, что понравился!
Кто-то циничный заметил, что изобретение контрацептивов поломало общественную мораль, а западную цивилизацию привело к закату и вымиранию.
Не понял – к чему это?
Прошло более ста лет. Нет уже таких писателей, да и мы, люди 21-го века, совершенно, как будто-бы, другие- (компьютеры,межпланетные полёты, на пороге-искусственный интеллект и пр. экстерьер).
А внутри мы остались теми же. Та же моральная оценка добра и зла. Я говорю о “нормальном” человеке, к которым отношу и себя.
Непостежима женская душа,да еще и в таком слоге.
Грустно и обречено.
А как читается легко и увлеченно.
Спасибо, господин Ярмолинец.
…в моей жизни была точно такая же ситуация…
Вас убили, или вы убили?
Тількі-но пан Ярмолінець сам засуджував поліцая, за стрілянину без потреби, а тут таке оповідання.
А хохол-то був правий — нагайкою це було б саме те…