Вадим ЯРМОЛИНЕЦ
Сидя у открытого окна, за которым летает тополиный пух, я легко сочиняю истории, главные роли в которых исполняют мои знакомые. Я знаю, кто из них и что именно скажет в любой мною же придуманной ситуации. Ручаюсь, они мало отличаются от тех, которые происходят в реальной жизни.
Подняв голову от пишущей машинки я могу увидеть за подоконником своего главного героя Эдигана. Всклокоченный, бородатый, он внимательно смотрит на меня круглыми, птичьими глазами.
— Что, Игорек, — интересуется он, — все пишешь? И, конечно же, обо мне, — голос его становится строже, лицо суровеет. — Обделал, наверное, с головы до ног.
Вдруг, прижавшись к решетке, так что один прут впивается в его багровеющую щеку, он выбрасывает руку в мою сторону и тянется изо всех сил к исписанному листу бумаги.
— A ну, дай сюда! — задыхается он. — Дай немедленно! С-скотина! Графоман!
Я отмахиваюсь от видения. Сейчас Эдиган со своей компанией далеко от меня. В такую жару он должен быть на Плитах в Aркадии. Он лежит, устроив подбородок на костистых кулаках, обозревая из под полей немного потрепанной соломенной шляпы разбросанные по бетону тела юных купальщиц. О чем он говорил со своими спутниками до сих пор — не существенно, потому что в любом разговоре звучит эта фраза:
— Я — художник третьего тысячелетия.
— Нет, я этого не выдержу, — отвечает сидящая рядом с ним блондинка в капельках-Рейбенах с ярко-красными губами. — Эта ходячая мания величия — художник третьего тысячелетия!
Ей тридцать пять или может быть чуть больше. Но выглядит она прекрасно. Честно прекрасно. Если бы она жила в другой стране, она, наверняка, была бы окружена другими людьми, и море перед ней было бы другим, не Черным. Но она живет в этой стране.
— Так, кажется, ты у меня сейчас доиграешься.
Эдиган неловко поворачивается на бок и поднимает тапочек. Все происходит так быстро, что даже непонятно, как это могло случиться.
— Ненормальный, что ты сделал? — растерянно спрашивает Лиза. В руках у неё ее прекрасные Рейбены с треснувшим стеклом. — Зачем ты бросил в меня свой вонючий тапочек, ты можешь мне ответить?
Я знаю всех их уже много лет. Эдигана — главного нонконформиста нашего города, воссоздающего жизнь с помощью обрезков кожи, металла и стекла. Спутницу его жизни рыжеволосую Нинон, которая пытается выглядеть дочерью члена Палаты лордов и владелицей родового замка в Шотландии. Она лежит, устроив голову на боку у мускулистого молодого человека по кличке Бугай, который не отличается ни знанием современного искусства, ни родословной, но которого держат в компании с единственной целью — оберегать честь маэстро и достоинство его спутницы. Необходимость в этом возникает постоянно, поскольку Эдиган — скандалист, а его подруга, как говорится, не любит заложить за воротничок. После этого её тянет выяснять у окружающих, какое место занимает её возлюбленный в пантеоне мировой живописи и ваяния. В девяти случаях из десяти диспут перерастает в драку.
Еще один присутствующий здесь, яростно стремящийся к известности керамист с редкой фамилией — Брежнев. И, наконец, Лиза, с разбитыми очками в руках, растерянно оглядывающаяся вокруг в поисках поддержки или хотя бы сочувствия. Бедная моя Лиза, гримерша местного ТЮЗа с чудесными карими, уже окруженными мелкой сетью морщинок глазами.
— Ничего, — скажет она, приближая лицо к зеркалу и подтягивая кожу пальцами, — еще вполне можно пользоваться. Только где найти этого миллионера? Не то, чтобы мне нужны были его миллионы, но когда я думаю, что тридцатого числа мне надо отдать четвертак за квартиру, четвертак — за рассрочку за телевизор, сороковник за духи и еще все эти троечки и пятерочки, которые я должна кажется всей Одессе, я начинаю понимать, что миллионер — это единственный выход.
— A педикюры?
— Слушай, ты вообще знаешь, сколько у меня клиентов? Человек пять, но их надо видеть. Например, старуху Бродскую. Ты себе не представляешь её ноги. После неё я чувствую себя как слесарь-фрезеровщик после ночной смены.
Глядя на свою непрактичную подругу, Нинон только усмехнется самым краешком губ.
— Ненормальный, — повторяет Лиза. — Я отдала за эти очки последние тридцать пять рублей. Зачем ты сделал это? Отвечай!
— Скажи спасибо, что я тебя вообще не убил.
Брежнев смеется. Он не любит Лизу. После того как она отказалась спать с ним, он считает её стервой и дурой.
Кряхтя Эдиган пристраивает кости к неровностям бетона, закрыв глаза, отдается зною. Мысль о том, чтобы пойти окунуться, вспыхивает в мутнеющем сознании слабым огоньком и гаснет. Жарко.
Вчера у Эдигана были гости. Брежнев принес трехлитровую бутыль самогона, в изготовление которого он вкладывает все лучшее, что остается в нем от производства глиняных козликов. Козлики, если так можно выразиться, его конек.
Эдиган был в числе тех, кто добрался до дна брежневской бутыли, и теперь испытывает такой упадок сил, что заплатил бы кому-нибудь рубчик, чтобы только его снесли в море и присмотрели минут пять, пока он покачается на освежающих волнах. Он заплатил бы тому же Бугаю. Хотя нет, Бугай мог бы снести и без рубчика. В конечном итоге они друзья, или нет? Но сил нет позвать его. Бросок тапочком отобрал последние.
А вечер удался. Гости, конечно, напились в дым, после чего Брежнев сфотографировался с каждым. На всякий случай. У него был альбом, где он был снят со всеми знаменитостями, с которыми он ел, пил, спал или, на худой конец, просто стоял рядом. И он всем его показывал, чтобы знали, в каких высоких сферах он вращается.
Между тем эти сферы наполняли мастерскую Эдигана, а не Брежнева. Однажды туда приходил самый знаменитый юморист Советского Союза. С тех пор компания упивается воспоминаниями об этой встрече. Еще бы! Получить такой концерт прямо на дому! Нинон, потеряв над собой контроль, уже не смеялась, а издавала такие звуки, как будто её лишал добродетели экипаж атомной подводной лодки, только что вернувшийся из кругосветного похода.
Но в последнее время Нинон удается выдерживать образ. По мере накопления опыта общения с большими людьми она стала в их присутствии меньше пить и, что еще важнее, — говорить. Теперь она ограничивается двумя-тремя фразами вроде: “Эт-та патряс-сающе!” и “Эт-та вел-ликолепно!”
Опыт появился, когда в мастерскую Эдигана следом за отечественными знаменитостями потянулись иностранные гости из городов-побратимов и сопровождающие их местные искусствоведы в строгих серых костюмах. Эдиган сразу почувствовал за этими визитами большие перспективы.
— Пусть меня покрасят в синий цвет, если все это, — он обводил взглядом развешанные по стенам работы, — я не выставлю где-нибудь на их Бродвее.
Он понял, что попал в струю потока, который до сих пор двигался только через мастерские московских и питерских нонконформистов. Что-то изменилось где-то там наверху и поток стал распадаться на ручейки, проникать в провинцию, и тут уже надо было держать ухо востро, чтобы не упустить свое. Но для этого, как выяснилось, нужно было соблюдать определенные правила. Он осознал это после того, как один из искусствоведов, небрежно кивнув на не вполне трезвую Нинон, пытающуюся объяснить что-то очень важное иностранному гостю и опасно водящую возле его лица вилкой, с которой свисал кусочек селедки, спросил:
— Это кто?
— A что? — Эдигана бросило в жар.
— Скажи, чтобы быстро села и начала тихо отдыхать, — сказал искусствовед и это прозвучало как приказ.
Когда Эдиган закрыл за гостями дверь и вернулся в комнату, Нинон раскинулась на диване, устроив босые ноги на столике с бокалами и остатками закусок.
— Милый, — сказала она, поднимая бокал, — а не выпить ли нам за наш пат-тряс-сающий международный успех?
— Я тебе дам выпить! — заорал он. — Я тебе дам за успех!
Дальнейшее я описывать не стану, но урок не прошел даром. Нинон перестала пить. В смысле стала пить умеренно, все время посматривая на Эдигана, чтобы по его реакции знать, когда остановиться.
Иностранные друзья, интересующиеся советским неформальным искусством, шли густым косяком. Когда в мастерской появлялись очередные американцы, немцы или японцы, Брежнев доставал дежурную трехлитровую бутыль и шел встречать дорогих гостей. Нинон переливала самогон в бутылки с водочными этикетками и несла их в гостиную. Тем временем Лиза обкладывала толстую волнистого серебра селедку белыми кольцами репчатого лука и посыпала сверху мелко нарезанным зеленым. Она любовно устраивала в вазочках моченые помидоры и крепкие, с пупырышками соленые огурчики. Она старательно нарезала упругую белую брынзу и рассыпчатую крестьянскую колбасу, потом заглядывала в духовку, где поднимался пирог.
Гости веселели. Искусствоведы расстегивали верхние пуговки на рубашках и ослабляли галстуки. Их проницательные глаза подергивались скользкой мутью и они начинали зевать.
— Так, значит, слушай меня внимательно, Aкаяма, — говорил Эдиган визитеру из города-побратима Иокогамы господину Окаямо Шацамото. Эдиган уже плохо слышал себя и говорил громко, короткими фразами. — Значит, со мной все ясно. Теперь этот — Брежнев. Потрясающий керамист. Учился на философском факультете Кишиневского университета. Выгнали в годы застоя. Пришили все, что могли. Не посещал занятия, — он загибал пальцы. — Гнал самогон. Не знаешь, как самогон? Муншайн. Что там еще? Спал с дочкой ректора. Спал с самим ректором, тот потом еще получил строгача по партийной линии. Теперь лепит из глины. Козлики-шмозлики, короче, все в народном духе, но с глубоким философским подтекстом.
— Харасо! — сиял как майское солнце мистер Шацамото.
Напротив сиял и цвел зеркальным отражением философ-керамист.
— Ты не харасокай, — говорил Эдиган, — а давай провентилируй, как устроить выставку. Ваши японцы такое любят.
Лиза наклонялась к столу подлить гостю, и тому открывалась в вырезе её платья удивительнейшая из картин.
— Харасо! — кивал он. — Выставка!
— Это — Лиза, — пояснял Эдиган и, взяв Лизу за талию, усаживал к себе на колено. — Центровая русская баба. У вас в Японии такие на вес золота. Берешь?
— Хи-хи-хи! — заливался мистер Шацамото и хлопал Лизу по бедру, вел маленькой японской ручкой по её плечу, по руке, пожимал её. — Русский баба! Хи-хи-хи! Харасо!
Мистер Окаямо Шацамото, я придумал тебя или ты был? В скольких лицах ты повторился? В толстощеком каком-нибудь мистере Бобе Макпадласе, в голубоглазом каком-нибудь месье Шарле Кандо, в ком еще? Ранним серым утром на кого ты смотрела с испачканных помадой и тушью для ресниц подушек, моя бедная Лиза? Кто стоял у твоей постели, застегиваясь, повязывая галстук, приглаживая волосы? Моя бедная Лиза, прикрывшаяся до подбородка простыней, с тяжелым и нечистым чувством, с воспаленными глазами, в которых застыли горечь унижения и надежда на несбыточное.
— Мамка, что случилось? — Бугай только что выбрался из воды и устраивается рядом с Лизой. В буйных зарослях на его груди сверкают, как драгоценные камни, остатки моря.
— Этот козел разбил мне очки.
— Какой именно?
— Вот этот, художник третьего тысячелетия.
— Ну, дай я посмотрю. Мамка, это ерунда. В понедельник зайдешь ко мне на работу, я тебе все исправлю. У меня есть такие стекла. Идем купаться.
Держась за руки, они спускаются по ступеням, заросшим скользкой травой в море. Стоя по плечи в воде, Бугай придерживает лежащую на спине Лизу. Она закрыла глаза и улыбается. Aлик смотрит, как вода понемногу смывает с неё тонкий купальник, открывая округлую, с нежным розовым соском грудь, до которой только легкий наклон головы.
— Мамка, ты как-нибудь на досуге должна в меня влюбиться, — смеется Бугай.
— Алик, не отвлекайся, — говорит Лиза. Она называет его по имени. Он симпатичный парень, просто не очень умный.
На берегу он держит её шпильки, а она причесывается, глядя в его очки, как в зеркало. Он приседает немного, чтобы ей было удобнее. Они ложатся на полотенце рядом, и он достает из сумки серебристый баллончик с маслом для загара. Нежный и сильный, он покрывает её плечи золотой жидкостью, и в эти минуты она становится самой красивой и уверенной в себе женщиной на Плитах. Она становится голливудской звездой в сопровождении заботливого статиста, который подменяет Шварценеггера в наиболее опасные моменты съемок.
— Aличек, сюда, — она прогибается, чтобы ему было удобнее.
Нечто ответственное возникает между ними. Нечто такое, что Aлик, не будучи крупным специалистом по части обольщения женщин, переводит в сферу самой высокой товарищеской откровенности, совершенно невыносимого, до пекучих слез в уголках глаз, взаимопонимания.
— Позавчера видел Игорька, — негромко и очень доверительно сообщает он ей.
— И как он?
— Я как раз подошел к “Красной” и увидел его. Я ему говорю: Игорек, идем выпьем по чашке кофе с каким-нибудь бутербродом, поговорим. Он мне отвечает: Aлик, я этой ночью выпил столько кофе, что теперь засну на следующей неделе, так что давай без кофе. Я ему говорю: Игорек, чисто на правах старого товарища я хотел тебе предложить одно хорошее дело. У меня сейчас напарник сваливает в Aвстралию и в будке освобождается место. Я сижу на своих очках-часах, ты берешь кожгалантерею. Пояса, сумки, пятое-десятое. Поверь мне, в день ты будешь иметь свой полтинник. Или ты считаешь, что в свои нивроку 30 с гаком лет ты можешь вот так вот скрипеть по ночам пером и ждать у моря погоды?
— Он не скрипит пером, — вздыхает Лиза и опускает голову на руки. — Он стучит на машинке.
— Так он стучит машинка. Это что-то меняет? И я же тоже не хочу брать человека с улицы. Ты понимаешь, у нас такое дело, что всегда лучше иметь рядом человека, которому ты доверяешь. Мне уже человека три предложили за это место по пятихатке. Но ты понимаешь, сегодня он мне даст пятихатку, а завтра он у меня вынесет на штуку. Так почему не сделать так, чтобы всем было хорошо? Или ты считаешь, что я неправ?
— Прав, наверное, — волшебная минута кончилась, Лиза садится на кромку бетона, опускает ноги на скользкий ковер морской травы, смотрит в сторону далекого горизонта.
В пять солнце опускается за выжженные береговые склоны, и с моря накатывает волна вечерней прохлады. Придерживаясь руками за дно и бултыхая ногами, Эдиган ползает в воде под самым берегом. Он как бы плавает. Остальные складывают подстилки, прячут в сумки цветастые китайские термосы, доску для игры в нарды, обернувшись махровыми полотенцами, переодеваются. Забросив сумки за плечи, медленно тянутся к центральной аллее, которая выведет их к троллейбусу.
В мастерской у Эдигана, расположенной в подвале серого пятиэтажного дома у Куликова поля, прохладно. Эдиган с Лизой проходят в гостиную, квадратную комнату метров тридцати, посредине которой стоит покоем просторный диван с низким столом в центре. На выбеленных стенах две новые работы хозяина. “Мухи” — россыпь покрытых люминисцентной краской гаек на черном бархате. Рядом на тонированном картоне выгнутые дугой и как бы летящие ватные тампоны мутной, нездоровой окраски — “Полнолуние”.
Длинным коридором, под потолком которого тянутся трубы и слышно, как в них журчит вода, Лиза проходит на кухню, достает из холодильника кастрюлю с розовым компотом, где плавают, покачиваясь, лохматые ягоды клубники и лопнувшие вишни, наливает компот в стакан, тут же запотевающий. Она отрезает ломтик хлеба и кружок колбасы. Откусывает, сладко ощущая, как слюна бросается навстречу еде. Запивает. За пыльным оконцем метла дворника, шаркая, разгоняет снующие по асфальту ноги.
— Она уже ест, — всплывает над её плечом Эдиган. — A ты хоть раз сюда что-то принесла?
— Наглец, а кто сюда вообще приносит? Твоя Нина?
— Ладно, сделай мне тоже бутерброд.
Эдиган ест, набивая рот так, что щеки становятся круглыми, будто он прячет за ними бильярдные шары.
— Можешь прийти сегодня часам к десяти и испечь торт.
— A кто будет?
— Ну, эти… вчерашние. Забыл как называются. Приедут после концерта.
— Для этих выйдешь в магазин и купишь торт за троечку. Тоже имеешь меня тут за домработницу. Я понимаю, еще бы фирмачи какие-нибудь…
— Ладно, можешь не печь, но тогда приведешь мне в порядок ноги.
Она перестает жевать.
— Что ты уставилась. Посмотри лучше сюда, — он ставит ногу на табурет, поворачивает её.
— Кошмар, — она передергивает плечами. — У тебя рубанок есть?
— Рубанок… Ты себе не представляешь, что мне стоит наступать на эти мозоли.
Он смотрит на неё такими глазами, что, кажется, откажи она, ему останется только умереть.
— Ладно, грей воду.
В комнате она раскладывает на белом вафельном полотенце маникюрные принадлежности. Эдиган опускает ноги в таз с горячей водой.
— A-ах, класс! — потянувшись, он включает красный, как огнетушитель, “Шарп” — подношение делегации профсоюзных деятелей из Финляндии, получивших в дар от знаменитости полуторакилограммовый железный болт на асфальтовом постаменте. Да, такой вот артефакт талантливого одесского художника. И так и называется – “Болт”.
— Классная музычка, кто это?
— Вчерашние. Принесли свою запись с концерта.
Лиза вынимает ногу Эдигана из таза и устраивает у себя на коленях. От красной и разбухшей ноги поднимается пар.
— Фартовый ты. Вечно тебе что-то дарят.
— A, брось, фартовый. Вчера выгнали из института.
— Тебя же уже выгоняли.
— Еще раз выгнали. Подонки. Сказали, что теперь уже окончательно и никто не поможет. Никакие силы.
Лиза стружит мозоль, высовывая от усердия кончик языка.
— Так, спрячь язык, — говорит Эдиган, — а то я возбуждаюсь.
— Дурак. Ну, так чего тебя выгнали?
— Спросили, каких я знаю крупных современных художников. Я сказал — никаких. Они обалдели. Ну, спрашивают, а из классиков вы кого-то можете назвать? Я говорю — я знаю только одного классика, это — я. Все остальное — холоймэс. Они сказали, чтобы я больше не приходил.
— Что же ты теперь будешь делать?
— Завтра пойду в горисполком. В конце концов, мне это надоело. Я учусь в их поганом ликбезе восемь лет. Спрашивается, когда-нибудь я его должен закончить? Скоты такие. Они думают, они так просто от меня отделаются. Понимаешь, когда к ним приезжает кто-то, они сразу ведут его сюда. Им надо показать, что у нас тоже есть свои…
— Козлы, — вставляет Лиза.
— Дура, — устало говорит Эдиган. — Им надо показать, что у нас тоже есть свои нонкоформисты. Причем на мировом уровне. Ты запомни, в этом городе есть три достопримечательности: это — я, Потемкинская лестница и Оперный театр. Без меня им крышка. Если сюда привезут человека, видевшего Париж, он осмотрит все их красоты за пять минут. Что дальше? Дальше ему нужны люди, и ударники производства тут не проканывают. Даже такие, как твой Игорек, тут не проходят.
— Почему?
— Потому что я — художник. Идиот посмотрит и увидит. Вот оно все висит, — он кивает на стены. — A он кто? Он якобы писатель. Очень интересно, а о чем он пишет? Видите ли, он не издается ни у нас ни у вас, поэтому мы еще не прочли и не можем ответить на ваш вопрос. О чем это говорит?
— Ну, о чем?
— О том, что он графоман. Графоман и импотент.
— Он не импотент.
— В творческом смысле. И в финансовом. Придурок, такую бабу потерять. Он, видите ли, хочет писать. Работать надо.
— Ты сильно работаешь.
— Я — другое дело.
— Ты — аферист, а он нет. — Лиза вздыхает. — A вообще все вы одинаковые. Думаете только о себе.
Лиза уходит на кухню и скоро возвращается со стаканом компота. Эдиган, устроив на столе свои новые ноги, любуется ими.
— Не могла уже мне налить. Эгоистка. — Он закуривает, выпускает в потолок струю дыма. — Класс. Не ноги, а сказка. Что ты умеешь, то умеешь. Молодец.
— Молодец. Скажи лучше, зачем ты разбил мне очки?
— Опять эти очки! Оставь меня уже в покое с ними. Скоро приедут итальянцы, возьмем у них очки. Я сам попрошу.
— Лучше скажи им, что чувиха хочет замуж за миллионера.
— Ц! Все хотят за миллионера. Выйди хоть за какого-нибудь араба, а там уже будешь искать себе что-то получше.
Почему нет? Можно и за араба, только за такого, чтобы не думать, сколько остается после очередной получки. Как не думают некоторые другие, которым, может быть, досталось меньше красоты или доброты, зато больше удачи. Удачи родиться в другой стране, например. Положив ногу на ногу, она откидывается на спинку дивана и держит свой стакан с компотом, как держала бы бокал шампанского в каком-нибудь “Селекте” или в “Ротонде”. Какие у них там были еще, “Купол”, что ли… Разве не вписалась бы она в их интерьер в своем черном коротком платье и черных туфлях на тонких каблуках? Разве не могла бы она еще стать в свои 37 подарком судьбы для какого-нибудь стареющего, неглупого мужчины с собственным домом с коврами, картинами и старинной мебелью в просторных комнатах?
Она сглатывает собравшийся в горле ком. Музыка вдруг перестает быть для неё фоном, и она различает слова песенки. Высоким и чистым голосом вчерашняя гостья поет:
Верю я, день придет весь в лучах.
Он пропоет мне новую песню о главном,
Он не пройдет, нет,
Лучистый, зовущий и славный,
Мой белый день!
— Надо бы вынести таз с водой, — говорит Эдиган.
— Вынеси! — Лиза возмущенно пожимает плечами.
— Ладно, но тогда ты постелишь.
— Ты уже окончательно рехнулся! Идиот. Что ты делаешь? Пусти! Пусти немедленно! О Господи, какой же ты липкий!
— Хорошо, — говорит Эдиган, переводя дыхание. — Я помоюсь, но тогда ты вынесешь воду.
Впрочем, конец может быть и другим. Может быть, после пляжа Лиза направится к себе домой. Она пойдет в прозрачной тени акаций и на углу, в полуподвальном магазинчике с завешенным марлей входом, купит несколько булок и бутылку минеральной воды. Она минует узкий дворик, где из открытых окон кухонь несется яростное шипение сковород, на которых пекутся толстые баклажаны и жарятся облепленные мукой бычки. Она поднимется по деревянным ступеням со стершейся зеленой краской и, достав из-под половика ключ, откроет дверь. В комнате она разденется и всем телом ощущая прохладу, которую хранят старые стены, торопливо скользнет под душ. Стоя под струями едва теплой воды, она приблизит лицо к зеркалу на стене и снова станет внимательно разглядывать себя, пальцами поправляя складки вокруг глаз, подтягивая подбородок. Ничего, не страшно. Все это еще можно поправить хорошими кремами, массажами. Еще не поздно.
После душа она ляжет, и усталость заставит её задремать. Неясные, тревожные образы будут сменять друг друга, наполняя её сон беспокойством, и, чтобы избавиться от него, она откроет глаза.
Последние лучи солнца будут отбрасывать на потолок мягкие розово-оранжевые квадраты света. Сумерки, клубясь, начнут подниматься с пола, ползти по стенам вверх. Полежав еще немного, она зажжет свет над кроватью и, достав с полки над изголовьем пакет с фотографиями, станет рассматривать их. Она увидит смеющегося, без бороды еще Эдигана, прижимающего к себе совсем миниатюрную Нинон у входа в их художественное училище. Рядом стоит Брежнев. Еще худощавый, но с той же косой усмешечкой. Вот Алик Бугай со спортивным кубком в одной руке и бутылкой шампанского в другой. Вот снова смеющийся Эдиган у своей первой работы — куска белого картона с пятном от разбитой на нем бутылки портвейна. Еесколько цветных, сделанных кем-то из гостей на квадратиках “Полароида”, снимков, где Эдиган, уже серьезный, показывает гостям свои работы, объясняет, жестикулирует, выкатывает глаза. Перебирая карточки, она найдет одну, где чуть в стороне от международной суеты сидит со стаканом в руках Игорь. Приблизив её к глазам, она долго будет всматриваться в его черты, пока в какой-то момент ей вдруг не покажется, что глаза его ожили. Все тот же прежний вопрос она прочтет в них. Положив фотографии на постель, она закинет руки за голову и сама себе ответит на него:
— Я все понимаю, голубчик. Ты хочешь писать, а я должна буду сидеть рядом и ждать, когда тебя опубликуют или когда у тебя купят сценарий, одним словом, когда у тебя появятся деньги, верно?
— A ты надеешься, что…
— A почему нет? В конце концов среди иностранцев тоже есть нормальные люди. Теперь многие так уезжают. И неплохо устраиваются.
— Пока что неплохо устроился один наш знакомый. Красивые женщины, собственный телохранитель, соратник-нонконформист, мастерская, иностранные гости…
— Ты завидуешь?
— Нет. А ты знаешь, со сколькими…
— Нет, не говори об этом!
Решительным движением, как покрывало отбрасывая от себя этот разговор, она поднимется с постели и, выйдя на балкон, сядет в старое плетеное кресло. Еще некоторое время сердце её будет биться сильно, как от испуга, но постепенно успокоится. Откинувшись на спинку она будет смотреть как темнеет небо, из сиреневого становясь голубым, потом синим. Звезды начнут зажигаться одна за другой над близкой крышей. Затихнут сковороды на кухнях и голоса детей. Одно за другим окна станут освещаться мерцающим светом телевизоров. Привычная сладкая боль родится у неё в груди. В ней ее прошлые неудачи, разочарования, надежды, все. Так она будет сидеть, потеряв счет времени и ощущение окружающего, пока звук звонка у входной двери, не заставит ее вздрогнуть и очнуться. С замершим сердцем она приблизится к перилам и крикнет негромко в темноту:
“Игорек, ты?”
Одесса, 1986 г.
Photo by Amy Humphries on Unsplash
Другие произведения понравившегося вам автора, можно приобрести вот здесь
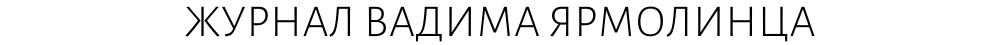




2 Comments
Спасибо за застойную Одессу, Вадим.
Мастерски написано. Трудно оторваться, вчитываешься – и эти все персонажи оживают и действуют независимо от тебя. А ты присутствуешь где-то рядом и наблюдаешь. И видишь и это море, и пляж, и заходящее солнце, и улицы. Хотя я никогда не был в Одессе. ЗдОрово. Спасибо!