Говорят, что одесситов отличает от всех остальных хомо-сапиенс стремительно включающееся чувство юмора. Они первыми отреагируют шуткой на шутку, вспомнят нужный анекдот, развеселят неожиданной репликой.
Это может привлекать, но длительное общение в таком режиме выявляет, что это в большей степени недостаток, чем достоинство. Описанные выше качества делают мышление одесситов поверхностным. Они легко скользят по поверхности разговора, как запущенный по воде голыш, и не всегда способны вникнуть в суть вещей. С ними редко удается поговорить о важном. Пусть меня простят те одесситы, к которым это наблюдение не относится. Надеюсь, они первыми подтвердят верность моего наблюдения.
Мне кажется, что это отношение к жизни можно перенести и на отношение одесситов к Паустовскому. Причем не на «всего» Паустовского, а только на одну его книгу – «Время больших ожиданий».
Паустовского есть за что любить и ценить. Он настолько же замечательный стилист, насколько и конформист, чьи уступки требованиям времени не имеют никакого отношения к художественному творчеству и сегодня способны вызвать только недоумение. Мой любимый пример из названой книги, где автор рассказывает языком советского газетчика об уходе из Одессы французской эскадры под командованием генерала д’Ансельма. Он испытывает горькую обиду за то, что французы, нация, которую он воспринимал по произведениям Дидро и Вольтера, Гюго и Стендаля, Золя и Коро (?!) бросают город, в который его занесла писательская судьба. Этот пассаж завершается словами: «Я представлял себе, с каким холодным презрением Стендаль или Гюго приказали бы расстрелять этого генерала за его трусливую подлость».
«Что-о-о?!» – хочется спросить автора. Генерал, все же, выполнил распоряжение своего правительства. Далее: зачем же привлекать коллег-писателей к расстрелу кого бы то ни было, если для этого есть специальные люди? И наконец: этот порыв был бы простителен молодому автору, захваченному кровожадным задором революции или гражданской войны, но не 66-летнему человеку, пишущему свои воспоминания в мирном 1958 году! О таких еще говорят «умудренный опытом».
Жизнь советского писателя, была конечно, не сахаром, поэтому в какой-то горней бухгалтерии от моей критики только отмахнутся, вспомнив, хотя бы, письма Паустовского в защиту Даниэля и Синявского, Солженицына и Любимова, против реабилитации Сталина. А если в этой бухгалтерии еще и найдется одессит, потому что – где их нет, то у него будет редчайшая возможность поблагодарить Константина Георгиевича за возвращение в советскую литературу вычеркнутого из нее на несколько десятилетий Исаака Бабеля. А Бабель для Одессы – ее ВСЕ. Другие ее авторы стоят у его постамента, как первые одесские градостроители у ног Екатерины Великой на площади ее имени.
Для одесского читателя несколько глав о Бабеле сделали москвича Паустовского одесским писателем, а всю его очень неровную по художественным достоинствам книгу, одесской книгой. Причем, этой заслугой книга обязана одной главе о «том мальчике» – внуке его тещи – старухи Гронфайн, которая привезла ребенка на дачу из Киева. В то лето Бабель с супругой сняли дачу на Фонтане, а Паустовский чисто случайно оказался их соседом.
Исчадие ада с горящими на солнце ушами не давало Бабелю секунды покоя, изводя его бесконечными вопросами. Теща со своей стороны изводила писателя по-своему. Малец сам спас классика советской литературы, отломав от химического карандаша кончик грифеля и засунув его себе в ухо. Потом рассказчик дачной истории, умело продлевая пытку Бабеля, привел мальчика на пляж, где тот долго нырял возле берега, а Бабель жаловался на жизнь. Когда уже на даче у ребенка потекла из уха фиолетовая жижа, Бабель наказал теще, чтобы та немедленно везла свое сокровище на лечение к киевскому светилу. Потому что в Одессе не врачи, а коновалы. Тут есть очевидная натяжка. Какие бы светила ни проживали в Киеве, никакая бабка не отправилась бы в дальнюю дорогу, не показав внука даже коновалу, чтобы хоть приблизительно понять причину несчастья. Но мы простим это Паустовскому. В рассказе много смешного, а главное в центре сюжета – наше одесское ВСЕ. Поэтому в отличие от меня одесситы любят эту историю, по-американски выражаясь – as is, и никаких претензий к ней не имеют. Я рад за них.
Между тем, на мой, конечно, вкус, самые лучшие страницы Паустовского об Одессе посвящены его пребыванию на Даче Ковалевского. Это – самый дальний край веселого города, где степь обрывается в море и оно шумит, подъедая ее обрывистые, глинистые берега или лежит неподвижно, едва скрывая чуть проступающие из под воды камни, поросшие коричневой и зеленой морской травой. Зной и тишина. Только крикнет чайка, да долетит с берега стук весла о борт рыбацкой лодки. Будучи административно одесским это место располагает универсальными свойствами тех пространств, которые вплотную примыкают к вечности. Перемещение в нее может быть настолько незаметным, что может показаться продолжением жизни. И в случае Паустовского это ощущение обостряется непроходящим чувством голода. Голод обостряет восприятие, делает краски ярче, впечатления достовернее.
Голод – один из главных героев этой книги. Он сопровождает автора, как Санчо Пансо Дон Кихота. Такими же отличными, эмоционально насыщенными (по той же причине голода) являются главы о морской дороге в Севастополь, где читатель физически ощущает изматывающий шторм, который грозит добить трещащий по швам пароход и, наконец, скитания по Севастополю, продутому ледяным ветром, обезлюдевшему и голодному. Ночью автор спасается завернувшись в ковер, оставленный в брошенном доме. Эти главы отменно хороши. Хотя они не про Одессу. И вот тут-то пришло время объяснить, зачем нужно было начинать эту историю с наблюдений за характером одесситов, обличении их в поверхностности.
Перелетая веселым голышом со страницы на страницу этой книги одессит, кажется, пропустил одно важное признание Паустовского. Он пишет, что полюбил Севатополь, в который он приезжал много раз, «как свою вторую родину». Одесса не удостоилась такого признания в любви. Она была для него городом экзотическим, со своим странным и смешным говором, специальными базарными манерами, многозначительными фразочками, еврейскими бандитами с Молдаванки, старыми репортерами с замашками аферистов, с Ильфом, который, стоя на стремянке в коротких штанах и пенсне, «ремонтировал электричество»…
Севастополь – другое дело, он был частью русской мифологии, которая уже стала для Паустовского его основной средой обитания. На узких улочках Севастополя он вспоминал Зурбаган и Лисс, совсем недалеко от этих мест жил Чехов. Насколько мне известно, он не называл второй родиной даже Тарусу, в которой провел много лет. Одесса была яркой, но случайной остановкой на его творческом и жизненном пути. Но записавшие его в земляки одесситы этого не поняли. Этому, впрочем, тоже можно порадоваться. Ignorance is bliss.
Вадим ЯРМОЛИНЕЦ
Подписывайтесь на рассылку этого блога и каждый день читайте о самом важном!
Фото К.Г. Паустовского – Википедия.
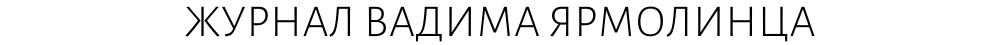






2 Comments
У каждого человека есть право и причины быть привязанным к тому или иному городу.
Даже если пребывание Паустовского было мимолетным ( в чем я лично очень сомневаюсь)эпизодом жизни, он этот эпизод написал щемяще совпадающим с моими ощущениями моего родного города как никто из писателей- одесситов.
Я перечитываю эту книгу каждый год и воспринимаю ее как убежавший навсегда на Фонтан или Люсдорф трамвай моего детства.
Так вот почему улицу, названную в его честь, закинули на окраину поселка Котовского… Поближе к Севастополю. Логично.