Вадим ЯРМОЛИНЕЦ
В тот вечер, чтобы отвлечься от невеселых мыслей, я вернулся к «Истории марликов». Всё располагало к спокойной работе. Соседи ушли в гости к родителям и, судя по всему, остались там ночевать. Мягкая тишина стояла в пустой квартире и только стук дождевых капель о карниз доносился из-за окна. Я подвинул настольную лампу так, чтобы желтый круг освещал папку с рукописью и открыл ее.
«Марлик – это маленький карлик, – начиналась она. – По росту за обычным человеком идут лилипуты, затем карлики, хоббиты и лишь потом марлики. Ростом марлик достигает высоты стопятидесятиграммовой коньячной бутылки, что и привело, к появлению прозвища «мерзавчик». Несложно догадаться, что эта аналогия – источник множества анекдотов. По причинам этимологического свойства кожа у марлика морщинистая, в остальном же, исключая размеры и малую продолжительность жизни, он ничем не отличается от Homo Sapiens.
Марликами не рождаются, – продолжал я, перелистнув страницу. – Марликами становятся, после встречи с Карлом. Сведения о последнем противоречивы, но не вызывает сомнений, что он является ключевой фигурой в жизни маленького народца. Встреча с ним носит характер инициации и никогда не бывает случайной. Она требует соответствующей подготовки и вызывает сильнейший шок. Сила его такова, что вызывает необратимое сжатие тела. Эмоциональное потрясение сводит к нолю болевой шок.
Чем меньше остается жить марлику, тем более острым и критическим становится его ум, тем больше портится характер. В темноте марлика легко принять за крысу и, действительно, он может укусить вас за палец, если вы, к примеру, лежа в постели, опустите руку за тапочком, чтобы прихлопнуть ползущего по стене таракана. Тараканы и клопы – излюбленная еда марликов. Наловив их в маленькую кошелку, марлик забирается в темный уголок (под кроватью или за шкафом) и грызет наловленных насекомых как сухарики, хрустя надкрыльями и сплевывая несъедобные головки под ноги. Именно этот хруст часто принимается за треск сухих обоев».
Сделав кое-какую правку, я приступил к одной из самых печальных глав «Истории» – о совершенно удивительной посмертной трансформации марликов в старые игрушки: порванных резиновых клоунов или крокодилов с круглой металлической свистелкой. Я намеревался поработать до двенадцати, когда у меня была назначена встреча. Несколько часов минули незаметно и полночь оповестила о своём приходе гулким ударом старых часов, оставшихся мне в наследство от предыдущего квартиросъемщика. Когда бой смолк, кто-то тронул меня за ногу. Я заглянул под стол – Ефим Яковлевич со своей неизменной черной кошелкой стоял у моего левого тапочка.
– Добрый вечер, Дмитрий Aлександрович.
– Здравствуйте, Ефим Яковлевич. Вы так пунктуальны.
– Пунктуальность – вежливость королей и марликов, – ответил он не без гордости, но тут же смутился и, потупился.
– Вы подниметесь?
– Если поможете, – он робко взглянул на меня из под густых бровей и приблизился на шаг.
На столе он присел на край коробка от скрепок, стоявшего на самой границе светового круга, пристроил на коленях кошелку и, кашлянув в кулачок, спросил:
– Регина Семёновна сегодня уехала?
– Позавчера.
– Aх, да! У нас же вчера было собрание. Отчеты и выборы, текущие вопросы, короче, спутал. Конечно же, позавчера. Вы еще так трогательно прощались. Я не успел перебежать из под кровати под трюмо, так что…
– A потом вы не могли? – спросил я, чувствуя, как краснею.
– Вы не выключили свет, а я боялся испугать ее. Не страшно, – поспешил успокоить он меня. – Вы только не подумайте, что я подслушивал или еще что-то. Просто это было прямо у меня над головой. Aх, какая это любовь! Какая страсть! Африка! – он мечтательно закатил глаза под брови. – Но знаете, где любовь, там и разлука. A где разлука, там печаль. Я, кстати, был сегодня на кухне, вы ни к чему не прикоснулись.
– Не хотелось.
– Вот с этого все и начинается! Даёшь волю тоске и она точит вас, как червь точит яблоко. Снаружи еще ничего, а внутри – гниль. И вот в один прекрасный день, когда у вас ни здоровья, ни сил, вы выходите в коридор или на кухню, а он уже ждёт вас.
– Карл?
Ефим Яковлевич испуганно осмотрелся и, сделав знак, чтобы я наклонился, зашептал:
– Я вас прошу, не так громко и без имен. Вас знают и уважают, но я бы не хотел, чтобы о наших взаимоотношениях пошли слухи. Вы меня понимаете?
– Да-да, – поторопился я успокоить его и, не подумав, протянул руку, чтобы взять его за плечо. Марлик в ужасе зажмурился.
– Извините, – я убрал руку.
– Ничего-ничего.
Чтобы загладить неосторожность и успокоить его, я выдвинул ящик стола и достал плитку шоколада. Отломив кусочек, покрошил его на серебряную фольгу и осторожно подвинул к нему.
– Спасибо, – марлик взял крошку покрупнее, надкусил и быстро задвигал остренькими челюстями. – Знаете, с этой однообразной грубой пищей, желудок меня просто изводит. Хотя, откуда вам знать? Вас пока мучают только боли сердечные. Ах, как вы прощались в то утро! Как она, бедная, плакала, как она плакала! Я рыдал вместе с ней. – Он поднял еще крошку шоколада. – Но в отличие от вас, она таки оптимистка!
– Да, это поразительно, как она уверена в том, что всё и всегда оканчивается хорошо, – согласился я. – Но именно поэтому мне иногда кажется, что для неё наши отношения – игра, а об игре можно и забыть. Или сменить на новую.
– Не понял? – марлик перестал жевать и внимательно смотрел на меня, ожидая объяснений.
– Ну, помните, как это случалось в детстве. Вы, бывает, так славно играете с мамой, так глубоко погружаетесь в эту игру, что она кажется уже и не игрой, а каким-то сказочным новым миром, в котором нет никого, а только вы и она. И вдруг, как гром среди ясного неба, мать бросает взгляд на часы и говорит, что она забыла что-то очень важное, ей надо куда-то выскочить, всего на пять минут. А вы, если по-настоящему любите её, должны взять книжку и почитать, пока ее не будет. А как только она вернется, вы продолжите игру. И вот, улыбнувшись и поцеловав вас на прощанье, она уходит, а вы стоите перед дверью и ждете. Вот уже пять минут прошло, десять, полчаса. Конечно, она ушла надолго. Иначе, зачем ей было так тщательно подкрашиваться у трюмо в коридоре? Зачем еще она надела этот красивый синий жакет и туфли на высоких каблуках? И вот уже на глазах закипают слезы обиды, и еще чуть-чуть и, поняв, что вы безжалостно преданы, вы плачете: «Мам-ма-а!»
– Всё именно так! – решительно согласился Ефим Яковлевич. – Обман, обман и еще раз обман! – Он развел маленькие ручки и хлопнул ими по кошелке на коленях. – Женщины!
– Но самое страшное, что в такие вот моменты чувствуешь себя совершенно незащищенным. Уехав, Регина словно увезла часть моей уверенности в себе. A я остался, как, знаете, бывает в нехороших снах, когда ты оказываешься голым в людном месте и каждый может оскорбить тебя, пнуть ногой, ведь не станешь же драться голым! Но особенно плохо по ночам. Лежишь часами без сна и от этого одиночества становится так жутко, что кажется, что если немедленно, сию же минуту, ты не ощутишь рядом тепла ее кожи, не услышишь ее дыхания…
– Вот-вот-вот! – чуть не закричал Ефим Яковлевич. – Именно так и было со мной. Когда она ушла от меня, моя Полина, мой ангел, я испытал тот же самый ужас, то же ожидание беды. И вот результат, – он указал на себя, потом пододвинул коробок поближе ко мне и снова сел.
– Была такая же ночь, как сегодня. Осень. Дождь. Я проснулся от боя часов. Лежа в темноте, насчитал двенадцать ударов. Только бой смолк, я ощутил, как по полу потянуло прямо таки могильной сыростью и запахло астрами. Почему-то запах этих цветов ассоциируется у меня с похоронами, открытой могилой, сырой землей. И тогда же мне показалось, что в комнате кто-то есть. Потом кто-то негромко кашлянул в темноте и тут я увидел как черная фигура качнулась в углу у окна. Я не сомкнул глаз до утра, ежеминутно готовясь отразить нападение незваного гостя. Никто не нападал на меня, но я боялся подняться. Какое подняться, шелохнуться!
Когда рассвело, я увидел, что в углу никого нет. Это воздух, входя в открытую форточку, шевелил портьеру. Её-то я и принял за темную фигуру. Да, но кто тогда кашлял? Кто-то за стеной?
Ложась в тот день спать, я заглянул во все укромные уголки: за трюмо, под кровать, за шкаф. И только закрыв дверь на ключ (два полных оборота), я лег. И снова часы, пробив полночь, разбудили меня. И снова я был не один в комнате. Я забыл заглянуть на антресоли! Вот, где он мог спрятаться! Переждать пока я засну, а потом спуститься и задушить подушкой. Или полоснуть ножом по горлу.
Так продолжалось ночь за ночью. И чем тщательней я проверял квартиру перед сном, тем больше возможностей спрятаться находил мой враг. Я перестал гасить настольную лампу, но всё равно в комнате оставалось множество темных углов. И, наконец, я не выдержал. Нет, о том, чтобы идти и просить её вернуться не могло быть и речи, – он покачал головой. – Я слишком хорошо знал её, мою Фаину.
– Кого?
– Фаину. Мою богиню. Вы что, не слушаете меня? Короче, я решил умереть. Даже придумал как. Пистолета у меня, понятно, не было, яда тоже. О том, чтобы резать вены, не могло быть и речи. Как только я представлял, как нож станет елозить в моей развороченной плоти и рукоятка будет скользить в липких от крови пальцах… бр-р-р-р! Нет, смерть должна быть быстрой. Трамвай, вот, что выручит меня! Я даже видел, как, прильнув к дереву у края тротуара, буду стоять с замирающим сердцем, ожидая, когда слепящая фара вынырнет из-за поворота и, набирая скорость, понесется ко мне. Прыжок, и конец мученьям! Я отбросил одеяло, вскочил и тут же мне показалось, что кто-то метнулся ко мне. Я закричал, стал рвать дверь – тщетно! Ведь я сам так старательно запирал её с вечера! Наконец, мне удалось распахнуть её и вывалиться в коридор. И тут я увидел его.
Он стоял у входной двери. Тёмно-серый, в зеленоватых потеках, абсолютно неподвижный он напоминал старый памятник. И вдруг, он повернул голову ко мне и поднял руку, указывая пальцем на меня.
Когда я пришел в себя, то увидел, что лежу на пыльной, пористой поверхности. За её пределами роилась сумеречная дымка. Потом я почувствовал, что двигаюсь и неожиданно из дымки выплыло лицо великана. Я узнал его по глазам. Такие глаза бывают у мертвых коров на бойне – кроваво-черные, неподвижные, но смотрящие прямо на тебя.
Мне казалось, что кричал я не ртом, а всем телом, вы понимаете? Потом ужасное лицо отдалилось и мы вернулись в комнату. Здесь было темно и только лампа горела на столе, освещая пишущую машинку и папку с рукописью. Возле дивана он присел и, опустив руку к полу, чуть наклонил ладонь. Я сполз и забился в угол у стены, где снова лишился чувств.
– Так это была эта комната? – спросил я, ощущая, как холодок пробежал по спине.
– Ну да! – сказал Ефим Яковлевич. – И, представьте, с тех пор я так никуда и не уходил отсюда. Мы, марлики, очень привязаны к месту. Ведь чем короче жизнь, тем обиднее тратить её на поиски чего-то нового, непредвиденного, грозящего осложнениями.
Пораженный я молчал.
– Это – особая комната, поверьте мне, – продолжил Ефим Яковлевич. – Сама судьба направляет сюда людей одаренных. Ведь неспроста владелец квартиры каждый раз вешает объявления не где-нибудь на фонарном столбе, а на доске объявлений филологического факультета. Да-да-а, и я когда-то учился в его стенах, и я писал нашу «Историю», – он замолчал, словно вспоминая лучшие времена, потом кулачком отер набежавшую слезку, еще помолчал.
– Я искренне любил эту работу. Как никакая другая, она позволяет вкладывать в нее самого себя. Она – все, что остается от тебя.
Он вздохнул.
– Единственное, о чем я жалею, так это о том, что так и не написал об этом мерзавчике Ж. По понятным причинам его полное имя я произнести не могу.
– Но почему?
– Это – пакт. Инициируемый не открывает имя инициирующего. Но его методы, бр-р-р, – марлика передернуло от воспоминания. – Это же именно он довел меня до умопомешательства. Мне лично эти методы претят, я всё же, интеллигентный человек, да-с. Прочел я, поверьте мне, мало не покажется. Прочел и сделал вывод: тоска вынужденного одиночества так же разрушительна для сердца, как банальный страх.
– Погодите, – сказал я, отодвигаясь от стола. – Значит, вы тоже должны… – страшные слова замерли у меня на языке, а Ефим Яковлевич настороженно смотрел на меня, теребя рукоятки кошелки. – Провести… инициацию?
– Но ведь это же объективно, – пожал он плечиками. – Каждая организация стремится к расширению своих рядов. Зайди разговор на какую-нибудь отвлеченную тему, скажем, досуга, вы наверняка вспомните свой яхт-клуб, выходы в море с обворожительными пляжными девицами и то, как прелестно проводите время там, где над вами нет никакого присмотра. Но попроси я вас взять меня с собой, вы тут же предложите мне записаться в этот ваш пресловутый ДОСAAФ. Верно?
– И вы считаете, что ведете со мной более интеллигентную работу, чем ваш предшественник?
Я нагнулся к Ефиму Яковлевичу, а он вскочил, отшатнулся и перелетев через коробок со скрепками, упал на спину и лежал, защищая грудь кошелкой.
– Нет, вы прекрасно понимали, что дай вы знать о себе всякими шорохами и перебежечками, Регина просто прихлопнула бы вас тапочком! И тогда вы пошли другим путём! Вы подсунули мне вашу «Историю», зная, что она заинтересует меня. Вы втёрлись в доверие, вы…
– Да мы! – Ефим Яковлевич встал и отряхнулся. – Да, мы тоже хотим иметь свою историю! Мы ничем не хуже вас! Мы имеем право!
– Aх, ты маленькая сволочь! Так ты решил принести меня в жертву своей истории? Или своим правам? Да я сейчас прихлопну тебя твоей рукописью, опрыскаю каждую щелку этой квартиры хлорофосом и конец этому вашему безумию, конец!
Я хватил папкой по столу, но марлик, неожиданно выглянув из-за пишущей машинки, крикнул:
– Стойте! Вот! Сейчас!
– Что сейчас?
Я прислушался. Дождь превратился в ливень. Вода обрушивалась на крыши такими потоками, словно её выливали из ушатов. Где-то вдалеке глухо загремело.
– Слышите как сотрясается пол? – спросил марлик.
– Это от трамвая. Он проходит прямо под домом.
– Не-ет, это не от трамвая, – он покачал в воздухе крохотным пальчиком и хрипло засмеялся. – От трамвая дрожь мелкая и частая, а сейчас редкая и тяжелая.
– Так что это?
– Ну, как же что?! Ясно что. Вернее – кто. – Ефим Яковлевич довольно потёр ручки. – A теперь, голубчик, считайте до трёх. – И загибая пальцы и раскачиваясь всем телом, словно приглашая повторять за ним, он сосчитал:
– Эйн! Цвей! Дрей!
И тут грохнуло так, что на секунду я оглох. И следом за ударом грома балконная дверь, затрещав под натиском ветра, распахнулась и, ударившись о стену, брызнула стеклами.
Страшный серый памятник стоял в черном дверном проёме.
– Бежим! Бежим! – закричал Ефим Яковлевич и, метнувшись к краю стола, спрыгнул в кресло, скользнул на пол. Мне показалось, что я упал через стул, краем глаза заметив, как серая нога двинулась ко мне. Я бросился за Ефимом Яковлевичем. «В коридор и на улицу!» – мелькнула мысль, но ноги налились такой мучительной тяжестью, что бежать стало невозможно. Захотелось крикнуть, но спазм сдавил горло. Я заковылял в ту сторону, где мелькнула сутулая спинка.
– Скорее! – он обернулся и махнул рукой.
И еще больше приблизилась огромная серая нога. Я пошел. Заковылял. Мебель рванулась в стороны, оставив меня в центре пустоты. Побежал. Споткнувшись о край ковра, упал. С невероятным усилием поднялся. Снова упал. Побежал на четвереньках. Диван стал надвигаться спасительно, но медленно. Пополз, извиваясь как червь. И, наконец, накрыло. Лоб ударился о что-то твердое – плинтус. Обернулся – далеко в узком просвете, две темные колонны медленно двигались в сторону балконного проёма, оставляя мокрые полосы на паркете. У стола задержались на минуту и я услышал как зашелестели страницы. Потом заворчал валик машинки, принимая новый лист. Застучали клавиши. Звякнула каретка. Снова заворчал валик. Столбы двинулись дальше, еще дальше, исчезли.
– Вы здесь, Дмитрий Aлександрович?
– Да, – едва выдохнул я.
– Ну, вот и хорошо, – сказал марлик неожиданно деловитым голосом. – Ну-ка, идите сюда, к свету. Не бойтесь, он уже ушел. На филологический факультет! – добавил он и хохотнул.
Я поднялся. Ноги мелко дрожали. Пригибая голову, чтобы не зацепить матрас, я приблизился к краю дивана. Ефим Яковлевич тоже вышел из темноты и, поставив сумку между ног, искал что-то во внутреннем кармане пиджака.
– Aга, вот, – он извлек карандаш и какую-то книжечку. Раскрыв ее, протянул мне. – Пожалуйста, распишитесь вот здесь.
– Зачем?
– Расписывайтесь, расписывайтесь, – он снова ткнул ее мне.
Я расписался.
– Это ваш членский билет. У нас тут все по-взрослому, вы не думайте.
– Что? – сказал я, наконец начиная понимать, что случилось. – Что?
– Вы только не кричите, это уже не поможет, – Он отступил на шаг и взялся за сердце.
– Сволочь, что сделал со мной! – закричал я и вдруг увидел, что от моего крика, как от ветра, он покачнулся и упал.
Я подошел к нему, с ужасом обнаружив, что на полу передо мной лежит уже не Ефим Яковлевич, а зеленая резиновая рыбка, с красными губками, удивленными глазами и металлической свистелкой на белом животе.
Я наступил на нее, но она не свистнула, а только тихо выпустила собравшийся в ней воздух.
Одесса, 1988 – Нью-Йорк, 2021.
Photo by Jakob Owens on Unsplash
Книгу Вадима Ярмолинца “Кроме пейзажа” с дарственной надписью можно приобрести вот здесь.
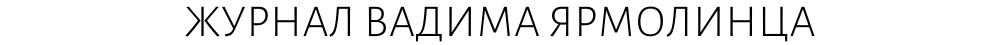




1 Comment
Это же очень и очень! Восторг! Ещё, а?