Одесса отметила день рождения. Оставив ее 33 года назад, я испытываю странное чувство по этому поводу. Это мой город и не мой, как оставленная жена. Она того, кто с ней живет. Я далеко от нее теперь. Какое у меня право хотеть от нее быть такой, какой я хотел бы видеть ее? Никакого. Но память о проведенных вместе годах не оставляет меня. Ощущение родства с ее улицами, домами, мостовыми, морем не прошло. Эта память и есть моя реальная Одесса. О ней рассказ «Роковое лето» – последнем в ней перед отъездом.
Роковое лето
Участниц первого конкурса красоты отбирал усатый лилипут Даня Цац, специализировавшийся на устройстве массовых гуляний в парке Ленина. Он наловчился проводить их на двух бетонированных берегах длинного, как кишка пруда, соединенных мостиком, который использовался как сцена. Подвыпившая аудитория располагалась на выгоревшей и вытоптанной траве правого берега. Левый занимали военные оркестры, оперные певцы, артисты цирка и танцевальные коллективы в шелковых шароварах и сарафанах, солисты которых вертелись как дервиши и визжали как ведьмы.
– А?! – торжествовал Даня, широко раскрывая глаза. – А?!
В смысле: ну, как вам нравится этот Голливуд?
Начальники улыбались и покровительственно хлопали его по плечам белого артистического пиджака. Талант, талант!
Летом середины 80-х уходящей эпохи Даня Цац сидел на черном от подросткового пота диване в «Вечерке» со стаканом коктейля (Витенька, что-то не очень крепкое) и списком претенденток. Те ходили туда-сюда по затанцованному в пыльный прах ковру на неумелых, нервно заплетающихся ногах. Из под купальников лезли неровные колени, ключицы, ребра, домашние котлеты. Даня смотрел на них, медленно свыкаясь с мыслью, что все эти чудные девули, как он их называл, при ближайшем рассмотрении оказались совсем не той породы, которую он видел в западных кино и журналах. Впечатление было такое, что тех выводили в специальных питомниках, постоянно шлифуя неровности, где надо добавляя, где надо подтягивая. От бессилия его обдавало жаром. Неужели на весь этот хваленный город нет ни одной пары человеческих ног, талии, груди? Где оно все? Где эти самые по слухам, жгучие в стране? Самые, я не побоюсь этого слова, сэксуальные?
– Ну, что? – бармен подавал ему новый коктейль.
– Витенька, что я тебе могу сказать? – Даня снимал очки и протирал их краем бордовой скатерти, моргал пустыми глазами. – Мы пьефесионалы. Мы яботаем с тем, что есть. Что-то мы, конечно, отбе-ем.
– Оленька, то есть я хотел сказать, э-э… да, Оксаночка, ну, поднимите же гоевку, моя ядость! – Даня возвращал очки на место. – И яспьямите пьечики! Не надо гойбатиться, на вас же, моя ненагьядная, будет весь гоед смотъеть.
И со вздохом Витеньке:
– Пе-ед тем, как участвовать в конкуйсе къясоты, я бы отпъявил часть пъетенденток поечить скайийоз. Но кто оценит мои стаяния?
Действительно кто, Даня? Кто, кроме корреспондента местной газеты, который вспомнит о тебе 20 лет спустя на другом конце земли? Главное – не ждать такой чести от местных краеведов, намертво замкнутых на своих Дерибасах, Деволанах и Ланжеронах! Кто из летописцев нашего несостоявшегося Марселя поставит в один ряд с этими именами-песнями твое анекдотическое имя – Цац, Даня? Но я, скептически относящийся к французской нации на текущем этапе ее деградации, с чувством глубокого удовлетворения опишу апофеоз лишения тобой девственности массовой аудитории, на глазах которой «худощавая, но с полными ногами», малоросска с чудесными карими глазами, тяжелой черной волной волос и полными губками сбросила со смуглых плеч короткий шелковый халатик, и зал, еще не закормленный грядущей порнухой, не залитый потоками иностранной и доморощенной грязи, затрепетал и на едином выдохе ахнул от восторга. Вот она – новая одесская богиня! Из ослепительного солнечного сияния ступившая в море всенародного обожания и похоти – Наташа Борщ! Вуаля! – как любил говорить еще один знаменитый одессит граф Де Ришелье.
Что, скажите мне, отличало ее от тысяч других на аркадийских Плитах? А то, что с пляжа наш смешной лилипут Даня вывел ее на высокую сцену, где она наступила тонким итальянским каблуком на эту жуткую гадину – официально утвержденный образ правильной женщины в виде железной мухинской колхозницы и всех ее рабочих подруг в сапогах и ватниках с пыльных и грязных строек проклятого Богом и людьми, но все никак не подохнущего коммунизма. Даня, Даня, понимал ли ты сам, что вернул этому обманутому и дополусмерти заезженному народу женщину, которую надо носить на руках, холить и лелеять, как цветок с такой трагически короткой жизнью, а не пользоваться как инструментом для вспашки земли и замешивания бетона?
– Витенька, еще один, пожаюста, и все. Этот можно покъепче. Спасибо доегой.
А за дверьми кафе теплые одесские сумерки заливали до самых крыш ущелья улиц. В набирающем густую бархатную синеву небе зажигались сочные, как слезы, звезды. Из порта, выбрасывая пену из под кормы и вибрируя от напряжения огромным железным корпусом, уходил в море на трехчасовую дискотеку прогулочный теплоход. Ночь в море – символ свободы, причастности к настоящей большой жизни из кино с красивыми актерами, большими чувствами и видами Парижа и Рима, на фоне которых и умереть не жалко! Ах, до чего хотелось раствориться в этом целлулоидном счастье! Как хотелось отдаться тревожному ритму, сладкому декадансу Брайана Фэрри:
Беги со мной, любимая,
лети, не касаясь земли,
другие пусть остаются дома,
другие, но не мы!
Я – раб любви, раб любви!
Раб любви, я – раб любви!
Небо полыхает, как море огня,
Твой мир меняется все время,
Твой мир, но не я!
Но как, однако, свежа июльская ночь в море, как упруг встречный ветер, как отбрасывает пенистую волну белый металлический корпус, то погружаясь в черную пучину, то вставая из нее!
От качки при поцелуях зубы ударяются и они смеются от счастья.
На следующий день дискжокей Алик Святкин рассказывает об очередной победе:
– У меня в каюте мы заходим в душ. Она берет крем и мажет им меня всего. И мы начинаем… Скользя друг о друга… Это такой ништяк, ты не представляешь!
Он рассказывает об этом лежа на аркадийских Плитах, не осознавая, что весь его внешний вид, указывает на то, что он врет. Свистит как курский соловей. С ног до головы он покрыт такой густой растительностью, что им можно чистить сковороды. Для обретения скользкости ему не поможет цистерна вазелина. Разве, что он предастся любви прямо в ней.
В горсаду выступает «Бригада С». Гарик Сукачев срывает с себя синий габардиновый пиджак, потом галстук, потом белую рубашку.
– Брад-дяга! – кричит он и духовая секция в огромных клоунских ботинках вторит ему: пап-па-а-р-ра!
Толпа кричит и тянет к нему руки, дурея от того, что выглядит как точно такая же, на западных видеоклипах.
– Брад-дяга!
– Пап-па-ра!
Скамейки трещат под ногами публики, пьяной от музыки и спиртного.
Гарик расстегивает брюки, и зал встречает его намерение восторженными воем и свистом.
В это же время у входа в Портклуб на спуске Вакуленчука толкутся мрачного вида молодые люди в черной коже, с серьгами, в колючих ошейниках и браслетах. Переговариваются, как члены тайной секты, вполголоса, передают по кругу последнюю перед входом в зал сигарету.
Выступает «Ассоциация пролетарских музыкантов». На клавишах – Костя Швуим, на гитаре – Толик Таржинский, на барабанах – Алик Акопов, на басу – Валерий Прессман. Лысого, худосочного вокалиста зовут Алик Проскуров. По воскресеньям он торгует на Соборной площади самодельными бусами и серьгами из бисера и проволоки. Швуим утверждает, что уникальность Алика в том, что он может орать часами.
– Поют в опере, – обнясняет Швуим. – Нам нужен припадок часа на полтора с обильной пеной у рта и битьем головой о сцену.
Тексты песен пишет Грязный Гоша. Джинсы заправлены в сапоги, жилетка на голое тело, растрепанные волосы до плеч. Рядом с ним – девушка Марта с опущенными плечиками, сигаретой в темных пальчиках и глазами звезды немого кино. Пара в будущем известная под именем Макс Фрай.
– Клавиши в мониторе не слышу! – говорит Швуим в микрофон, и слова «клавиши» и «монитор» звучат как колдовское заклятье.
Акопов пробует звонким ударом тарелку, потом раздается низкое гудение баса Прессмана. Бу-бу-бу-бу – отдается в животе, сердце тревожно замирает. И наконец, поехали!
Акопов в одиночку разгоняет грохочущий железом состав, после чего на него вскакивают все остальные. Когда металлическое чудовище несется сквозь черный, наполненный белыми вспышками стробоскопов зал, на сцене появляется Проскуров. На нем черный ситцевый халат уборщика, найденный в подсобке, где ассоциация выкурила перед выходом на сцену зловонный конопляный косяк. В правой руке у Проскурова кепка. Сквозь ураганный натиск звука пробиваются его истерические вопли:
Рвутся на части слепые заветы!
Небо читает свой приговор!
Смерть! Костлявые руки тянет смерть!
Меланхоличного вида гитарист, окончивший консерваторию по классу виолончели, которую он теперь вынужденно мучает в филармоническом оркестре, отводит душу. Пулеметные очереди сигналов, отправленные из под его легких пальцев в усилители и из них – в огромные черные кубы динамиков, разрывают пространство черного зала на куски, которые валятся на публику горной лавиной.
Слышны под землею железные стуки,
Рушится в небе торжественный храм!
Смерть! Костлявые руки! Смерть!
Припадок Проскурова в разгаре. Он выкрикивает слово «смерть», выбрасывая в зал кулак с зажатой в нем кепкой, лысина яростно отбрасывает сполохи стробоскопов.
Аналогия с вождем очевидна всем, кто еще способен соображать. Их всего двое – кураторы из обкома комсомола с перекошенными испугом лицами. Штатные надзиратели за рок-движением, которое выпущено из бутылки с намерением проконтролировать и направить в правильное идеологическое русло. Рок-движение! Только в комсомольскую голову могла прийти мысль соединить эти слова. Но по иронии судьбы и это движение, стало народно-освободительным. А что еще освободило нас от всех этих комсомолов? Что было эффективней этого слепого и тупого рева и ритма, не терпящего никакого насилия, оглядок, ограничений, оговорок? Солженицын? Зиновьев? Абрам Тэрц? Кто из этих, в коже и цепях, слышал о них?
Что вообще значили слова, текст, смысл для этой толпы? Ничего. Голос был еще один инструментом. Устройством для инсценировки группового полуторачасового припадка.
– Смерть, простирает костлявые руки! Смерть!
О эта могучая контркультура! В 60-х лучшие ее представители пели: all you need is love, here comes the sun, we need a revolution, бла-бла-бла, бла-бла-бла-бла, солнце, воздух и трава – наши лучшие друзья.
Через 20 лет тема сменилась. На смену протертым джинсам, цветам и свободной любви пришли кожа, цепи и шипы.
Еще через 20 лет лирических пацифистов и готических пессимистов сменили уголовные ублюдки из Гарлема и Южного Бронкса.
So all my bitches and my niggaz and my niggaz and my bitches
Wave your motherfuckin hands in the air
And if you don’t give a shit
‘ike we don’t give a shit
Wave your motherfuckin fingers in the air
Как бы перевести это попристойней? Как перевести вообще эту абракадабру в исполнении артиста по имени Снупп Доги Дог на простой человеческий язык? Если вы спросите мое мнение, я вам скажу: у меня есть подходящий кандидат! Пусть он не выходит на сцену в приспущенных на заду штанах, пусть он не носит на груди килограммовое золотое распятие, пусть он не передвигается на полусогнутых, чуть не касаясь костяшками пальцев сцены. Нестрашно. У него есть свои достоинства, которые позволяют сохранить карикатурную природу интересующего нас явления. Даня, ко мне!
Знач-так мои дойогие бьяди и мои дойогие нигеы!
Поднимите свои гъебаные юки пьямо в воздух!
И, если это только не сильно вас напьяжет,
а нас с вами хъен, что напьяжет,
Так машите своими гъебаными пальцами в воздухе!
Давай, Даня, давай!
Эй ниге-ы, дайте мне сюда десять бьядей,
И все десять останутся довольны колотушкой моей!
Обратите внимание, кто бы ни занимал место идола в любой отдельно взятый момент истории поп-арта, перед ним всегда стоит одна и та же ревущая от восторга толпа малолетних идиотов, поклонников явления, главным свойством которого является полное отсутствие всякого смысла и логики сегодняшней позиции по отношению ко вчерашней. Эта культура проявляет постоянство только в одном – отрицании стоящего за пределами концертной площадки сейчас, каким бы хорошим или плохим оно ни было. Еще один вариант проявления споконвечного конфликта барана и новых ворот. Красные, зеленые, желтые, они вызывают одно и то же желание вдарить по ним рогами. Из-за этого пройденный этой культурой путь усеян трупами борцов, погибших отнюдь не за счастье человечества, а от передозировки наркотиков, пьянства, срамных болезней, своей пули или пули конкурента. Опять же, не идеологического, не дай-бо, а исключительно коммерческого. И нет никакого средства избавления от этой дурной энергии, кроме как предоставления ей полной свободы, в которой она напряжется, крикнет, выпустит газ, облегчится и будет тут же сметена энергией нового поколения недоразвитых нигилистов. Нигилистов, которым нечего терять, кроме своей жизни.
Вспышки света вырывают из мрака тысячекратно повторенный мунковский «Крик», но крика не слышно. Рев рок-движения глушит все.
Загнанный в темный угол бледнолицый вожак, уже осознал, что его энтузиазм дал непредвиденный побочный эффект. Шабаш неуправляем, как неуправляем смерч. Но если ничего не предпринимать, последствия будут ужасающи. Поэтому надо что-то делать. Вызвать милицию, войска, танки, самолеты, а потом провести собеседование с певцом в тихом кабинете на улице Бебеля. Послать повестку с двухнедельным уведомлением о явке, чтобы за эти две недели лысый вырожденец не переставая клал в штаны, а потом клялся дрожащим голосом в верности делу партии и правительства.
Но пока в штанах тяжело и мокро у комсомольца. В этот момент бедолага не думает-не гадает, что где-то в Москве уже вступили в действие необъяснимые силы нового времени. Уже эти концерты сытно кормят тех, кто нашел правильную формулировку для одних начальников и готов делиться с другими. И вот, смотри: едет-катится по стране череда гастролеров, нахально стоящих одной ногой за той чертой, которая еще вчера была обозначена колючей проволокой.
«Деревянные церкви Руси… в этих стенах есть сердце и вены», конечно, не Ленин с кепкой и костлявой смертью, однако, как быть с церквями и венами? Что делать, Чернышевский, твою мать? О времена, как это точно заметил первый секретарь обкома А. С. Марченко, о нравы!
В этой мутной перестроечной воде все, что остается местным властям, это убрать скамейки из Зеленого театра ЦПКО им. Т.Г. Шевченко и, хрен с ними, с этими сопляками и отморозками, пусть танцуют! И они танцуют.
От Москвы до Ленинграда и обратно до Москвы
пляшут линии, заборы и мосты!
Агузарова, закинув ногу на ногу, многозначительно говорит местному журналисту:
– Скоро, очень скоро Запад увидит восход новой русской мега-звезды. Но ее имя я вам не скажу!
Ах, эта вековечная и общенациональная российская мечта – поразить Запад! Чего только ради? Какая Эдит Пиаф, какой Энгельберт Немперди… то есть Хемпердинк, не спал-мечтал о том, чтобы его голос звенел над сибирскими просторами? Так хорошо больше не будет, Жанна, или, чтобы понять это, надо подняться на сцену лос-анджелесского ресторана? Лови момент, глупая сельская девочка! Не будет больше этого летнего вечера, огней, стены цветущих каштанов, и наполненной танцующими парами счастливых молодых людей асфальтовой площадки Зеленого театра.
У балюстрады возле кафе журналиста ждет его подруга – худенькая молодая женщина с неожиданно ранней и обильной сединой в черных волосах. Она – швея из оперного театра, делавшая платье одной из участниц Даниного конкурса. Подруга, с которой они учились в театральном училище, была замечательно сложена, но не прошла в финал из-за невысокого роста. В этом городе все знают друг друга, все связаны, все могут уместиться в один фильм Киры Муратовой и умещаются.
После концерта неофициальный биограф устроителя народных гуляний и швея с образованием художника театрального костюма пройдут под темными деревьями Маразлиевской, мимо осыпающихся фасадов одесского ракушнякового классицизма, сырых парадных, фонарей, надписей «Мусор не бросать» и полузакрашенных, допотопных – «В нашем доме нет второгодников», мимо окон, освещенных голубыми сполохами телевизоров, последней перед сном мольбы: «Тася, уже оставь меня в покое, я не знаю, куда делись эти пять рублей, хорошо?»
Дома их встречает собака, которая дождалась-таки, дотерпела и теперь виляет хвостом, ожидая, когда хозяин возьмет поводок и скажет заветное «Пошли». Этой ночью собака свяжет их жизнь, но ни она сама, ни они даже не могут представить, каким удивительным образом это произойдет.
Полугодовалая пуделиха по прозвищу Капа пулей вылетает на улицу и, присев на газон, облегчается с громким журчаньем. Вернувшись к хозяину, взглядом и хвостом спрашивает: теперь вокруг дома, а?
Утром он просыпается от голоса своей подруги.
– Я не могу в это поверить, – слышит он. – Я просто не могу в это поверить.
Он вскакивает. Она стоит в коридоре с туфлями в руках. Это прекрасные итальянские остроносые туфли на изящном каблуке-стопочке. Они куплены по случаю, как покупается тогда все – по случаю – за немыслимые, как все тогда, деньги.
Он подходит к ней и обнаруживает, что каблуков больше нет. То есть, они есть, но покрывавшая их роскошная коричневая кожа, съедена, висит клочьями, открывая белый пластик. И тут же сидит, виляя хвостом, уничтожившее их черное, лохматое чудовище с розовым языком, склоненной набок головой и веселым карим глазом из под челки – ну, как я, здорово постаралась?
– Это были мои единственные туфли. Я не могу в это поверить. Только не бей ее, она же не специально…
– Я тебе куплю новые.
На какие шиши, товарищ журналист? На аванс, получку и гонорары?
Ее интересует другое:
– Где, же? В центральном универмаге? – Она бессильно вздыхает. – Мне даже сейчас не в чем домой поехать…
– Слушай, у нас тут один сапожник работает, – вспоминает он. – Феликс. У него золотые руки, может он что-то сделает.
Ах, сколько у него планов было на утро! Все прахом! Собрав в пластиковый пакет обгрызенные запчасти, он бежит к Феликсу. Слава-те, будка открыта. Зажав губами пучок гвоздиков, Феликс склонился над надетым на железную ногу ботинком. Тук-тук, говорит молоток. Тук-тук.
– Это что, крысы? А-а, собака. Придешь завтра, будут как новые. 5 рублей.
– Ты сможешь обтянуть каблуки новой кожей?
– Ты что совсем? – Феликс стучит черным от краски пальцем по виску. – Где я возьму такую кожу? Это надо ребенка ободрать, чтобы такую кожу сделать. Я их покрашу и все. Кто там увидит, это же внизу, правильно?
– Ну что он сказал? – встречает она его.
– Он сказал, что завтра будут как новые. Позвони домой, если тебе надо, и пока оставайся у меня.
И это «пока» растягивается на весь остаток жизни, но об этом никто кажется не догадывается, кроме, может быть, собаки, которая глядит на них своими озорными карими глазами из под черной челки, чуя своим собачьим нюхом, что в целом все остались довольны проделанной ей работой. Она садится возле гостьи и проводит мокрым языком по руке, мол, полный порядок, подруга, жизнь прекрасна и удивительна.
Квадраты солнца лежат на полу и свежий утренний воздух приподнимает и опускает занавес. На подоконнике – миска с помидорами и тарелка с остатками подсохшего хлеба – их сегодняшний обед и ужин. До получки осталась десятка с мелочью. За подоконником видна шелушащаяся желто-серая стена дома напротив, мозаика ржавых крыш с редкими покосившимися антеннами, кроны акаций и над всем этим – синяя полоска моря, размытая в верхней части, где она сливается с небом.
Одесса. Лето. Середина 80-х. Конец эпохи.
Нью-Йорк, 2006 г.
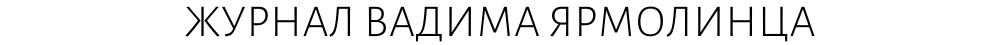




6 Comments
Дивный рассказ, Вадим! Бесподобный как сама Одесса и настоящие одесситы.
Смешной и трогательный, с запахом и цветом того времени.
Спасибо, дорогой!
И вам спасибо!
Наташа, была, как мне помнится, очень симпатичной и интелигентой девушкой, и вообще, попадая на любой общественный пляж в мире, вспоминаешь Плиты, сравнение в пользу Плит.
Уважаемый Вадим, большое спасибо за Ваше творчество!!!! Просто прямо амехай на душе! Всегда получаю это огромное удовольствие от чтения Ваших рассказов!!! Спасибо большое!!!
Даня Цац, это…?
Ставить знак равенства не стоит, но названный вами человек, действительно послужил прототипом для моего персонажа.