Умер Ефим Ярошевский, автор культового для Одессы текста «Провинциальный романс». Для меня эта потеря двойная – близкого человека и – значительной культурной составной города, в котором я родился и провел молодость.
Память сохранила белую канцелярскую папку с тесемками, в которой лежала рукопись его «Провинциального романса». Желтеющие листы машинописи с густой авторской правкой. Я получил эту папку от Беллы Верниковой и на несколько вечеров погрузился в совершенно очаровавшее меня художественное пространство, где действовали вполне угадывавшиеся персонажи: Дульфик, Хрущик, Толик, Рэй – известные в городе художники и литераторы, ведущие бесконечный разговор о безденежье, отсутствии всякого интереса к ним, скуке.
«На Молдаванке просыпаются фонари. Будем сумерничать, сумерничать. Будем собираться. Вытрем ноги о половички с водой, войдем в укутанную вещами комнату. Утонем в диванчике. Зажжем газовые печки.
Будем читать стихи. Смотреть на дождь. Греть над чаем наши отсыревшие лица. Слушать, как сладко к нам подбирается грипп. Будем смотреть на огонь. Будем ждать».
Мы часто судим о значительности автора по тому, насколько точно ему удается отразить свою эпоху. Для этого не надо писать много, эту задачу может выполнить даже один небольшой текст. «Провинциальный романс» стал великолепным слепком 70-х – эпохи, которую назвали Застоем. По прошествии полувека социальных сотрясений она может показаться привлекательной своим мирным полудостатком, пугливой еще свободой кухонных разговоров, нажитым двумя послевоенными поколениями уютом, книгами, пластинками, вдруг возникшей надеждой на возможность переменить собственную судьбу.
Ярошевский переменил ее позже всех, он словно охранял свою Молдаванку, потом улицу Княжескую, где жил когда-то и я. На двух кварталах этой короткой улицы оказалась самая высокая в городе концентрация именитых и очень, конечно, разных авторов: Юшкевич, Бунин, Нилус, Ярошевский, Смирнов.
Потом Фима переместился в немецкий Котбус, уютный и чистый городок, в каких каждый одессит склонен видеть воплотившуюся мечту об Одессе. Ах, вот какой она могла бы быть! И здесь он продолжал переписывать и дописывать свой романс. У меня на полке стоит пять его переизданий, начиная с первого, выпущенного в Нью-Йорке одним из его героев – Эдвигом Арзуняном. Все созданное рядом с «Романсом» – в стихах ли в прозе – только дополняло и расширяло его.
Я стою на мели Сухого лимана
По колено в пыли своего романа.
Я стою там давно и врастаю в сырость
И за эти годы, наверное, вырос.
Там стоял в носу ковыряющий Шая,
Городской пейзаж собой освежая.
Там играло море в начале века,
Там остался след человека.
«Романс» был его пожизненной игрушкой, возможностью беспрепятственного возвращения в любимое пространство молодости, где его ждали любимые друзья. В нем не было сюжета, никому не грозило исчезновение, они просто встречались и вели свои бесконечные разговоры. Называя кого-нибудь из них, он всегда счастливо улыбался. Он называл их уменьшительными именами, как своих детей, и это привело к тому, что и сам он – высокий и широкоплечий, стал для друзей Фимочкой.
У него было редкое для Одессы умение – слушать. Тогда была такая немного странная форма общения – люди гуляли по улицам и беседовали о главном. Остановившись он заглядывал на тебя, немного сверху и сбоку, внимательно рассматривая, словно примеряя для того, чтобы вставить в свой текст. Взявшись за подбородок, бросая на тебя пронзительный взгляд, спрашивал порывисто: «Да? Ты так думаешь? Хорошо, хорошо».
Он был ярким персонажем городской жизни, высоким, сутуловатым, с медальным профилем. Грешен, я не смог пройти мимо такого, не украв его у него для своих текстов. С него списан Ефим Яковлевич в «Марлике», с него же Ефим Яковлевич Ямпольский в повести «Проводы», с него же – Кощей в «Свинцовом дирижабле».
Я преступно сохранял его имя и отчество и он, когда у нас разговор, касался этого, говорил, что хорошо бы делать героев не настолько узнаваемыми (чем сам он не грешил :)) , но в его требованиях всегда слышался снисходительный вздох: «ну, хорошо, пусть так и остается». Я рад, что так и осталось, потому что сейчас, когда его уже нет, он – со мной.
Вадим ЯРМОЛИНЕЦ
Фото автора
…
ЕФИМ ЯРОШЕВСКИЙ
ОДЕССА, ДВОР, ГЕКЗАМЕТР…
/мясоедовская 35/
…………… (посв. Аркадию Львову )
… Вечер стекает горячим сиропом
в пыльный стакан Молдаванки.
Бобе зовет, надрываясь, домой вспотевшего внука.
Внук забивает в родные ворота решительный гол.
(Внук — это я.)
Детям давно пора ужинать,
на небе уже зажигаются звезды.
Пора покупать газированной свежей воды —
киоск уже скоро закроют.
……………
Думать, что к вечеру все затихает в нашем прекрасном дворе –
большая ошибка.
Идет игра в домино. Старики забивают с размаха
в деревянный стол свои последние кости.
Где-то идет разговор:
«Вы знаете, Муся,
я еще утром заметила снизу, что вы давно не стирали
собственных ваших трусов!
Или мне показалось?..»
Та отвечает довольно спокойно: « Вам показалось…
Вы мне лучше скажите, часто ли моете вы ваш вонючий отлив?
По-моему, там завелись уже черви…
ЧЕРВИ, по-моему, там уже завелись!»
Внезапно соседка взрывается:
«Чтоб ты так дыхать могла, румынская блядь,
если я позволяю себе какую-то нечисть в отливе!»
Спор нарастает крещендо:
«Ах ты, паскуда, ты будешь меня публично позорить?!
Последний ребенок знает,
что ты в такие тяжелые годы
с немцами СТО РАЗ спала!»
«Грязная тварь! мандавошка… Последняя сука квартала!!»
«Ты посмотри на нее – худая зараза!
об тебя же порезаться можно!..»
«Ах, ты опять за свое?! Ну так запомни, халява:
я твоего слабосильного мужа
больше к себе не приму!»
«Потаскуха!!………….
Держите меня — или будет убийство!!»
(Никто, конечно, соседку не держит — убийства не будет)
Бабушка Дора с трудом загоняет домой вспотевшего внука:
он еще маленький —
слушать своими ушами такие плохие слова!
Двор затихает.
Слышно, как жарят бычки.
Соня уже набирает из шланга прохладную воду на завтра.
Красавица Фира моет под краном
свои загорелые длинные ноги…
Жадно следит за этим процессом с балкона старик Баренбойм.
Сосед Веледницкий
зажигает над Торой свой золотой семисвечник
и молится жарко Субботе…
Бессмертная пыль опускается тихо
на крышу мансарды мадам Остапчук.
Над Молдаванкою долго горит, не сгорая, серебряный месяц…
ПРОЩАНИЕ
Придвигая кости ближе к морю,
У пахучего обрыва на краю почти…
И как только время в море меня смоет,
Этот стих прочти.
И пока я буду превращаться в синь и в воду,
Ты живи, не слишком размышляя обо мне.
А когда придешь ко мне в ненастную погоду,
Покачаемся с тобою на пустынном дне…
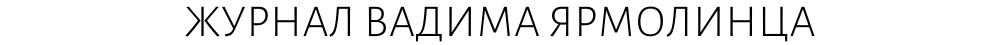




2 Comments
Мои соболезнования, Вадим ❤
Искренние Соболезнования